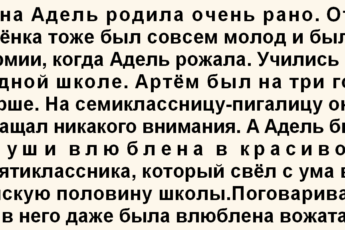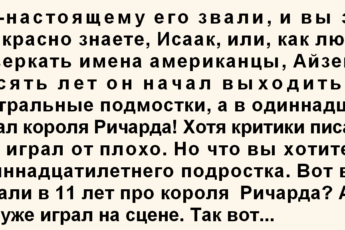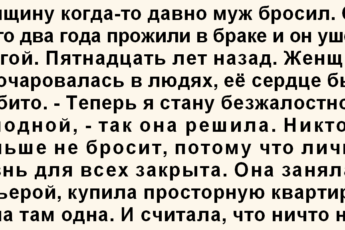— До свидания,— сказала Анна Николаевна, и на глазах у нее блеснули слезы.
— Счастливого пути,— живо ответил ей новый хозяин ее дома.
Энергично пожал руку, наверно, и не почувствовал, что сделал больно, и тут же занялся своим делом. Каким? Не имеет значения. У этого человека всегда хватало своих дел.
— До свидания,— тихо сказала Анна Николаевна его жене.
— До свидания,— улыбнулась ей новая хозяйка.
Но в ее улыбке не было ни добра, ни сожаления, ни зла. Ничего не было. Она зря своих чувств не растрачивала.
Анна Николаевна окинула печальным взглядом комнату с окном на реку, маленькую теплую кухню, в которой зимними вечерами сидела с мужем, и, прерывисто вздохнув, вышла из своего, теперь уже не принадлежавшего ей дома. Можно бы и совсем уйти — калитка рядом, но что-то еще удерживало...
Да, надо простится с его садом. Это посадил, ее муж, полковник в отставке. Анна Николаевна остановилась у куста сирени и вспомнила, как она с мужем впервые стояла на этом месте.
...Перед ними текла неширокая, ласково освещенная уходящим солнцем река. У нее были заводинки, поросшие желтыми кувшинками, плотно прилипшими к воде круглыми зелеными листьями. У берега на песчаной отмели стайка мальков грела темные спинки. Покоем и светлой грустью веяло от тиховодья реки.
— Ну как? — спросил муж.
— Мне нравится,— негромко ответила она.
— Ты здесь окрепнешь. Болезнь в тебе до сих пор сидит.
— Ну что ты... Я себя хорошо чувствую.
— По лицу не вижу.
— Но ведь и годы...
— Что там годы! Подумаешь, пятьдесят лет. Я видал старух, у которых не щеки, а яблоки.
— Красные? — улыбнулась жена.
— Конечно, не антоновка! — При этом муж тоже улыбнулся. (Анна Николаевна вздохнула, вспомнив это. Когда-то ее муж любил весело пошутить, много смеялся, но это было давно. Очень давно.)
— Весь участок заполним деревьями: липами, кленами, дубами,— мечтал он.— Сирень посадим. Вот на этом самом месте, где сейчас стоим.— Он окинул взглядом тенистые берега и тихое, засмотревшееся в воду небо.— Чтоб здесь был большой куст. И под прикрытием всей этой зелени поставим дом. Ну как? — И скупая улыбка чуть дернула его короткие жесткие усы. Вид земли радовал его, волновал, и поэтому он был словоохотлив.— Вообще здесь можно создать живописный уголок. Дом срубим из сосны... У нас в деревне дом тоже был из сосны. Сколько же лет я там не был? Пожалуй, лет сорок. Как ушел в армию, так и не вернулся. Хороший был дом, пятистенка. Отец не хотел делиться, так и жили в одном доме — двое старших братанов женатых и я, холостой... Теперь никого нет...
— А я, знаешь, сейчас смотрю на землю и чувствую, что крестьянское начало во мне никогда и не умирало. Просто был большой интервал, и вот я снова на земле...
Жизнь природы, так долго от него скрываемая городами, армейской службой, теперь широко и доверчиво раскрывалась перед ним. Он смотрел и задумчиво улыбался. Его губы, потеряв обычную твердость, помягчели, и от этого на лице полковника появилось такое выражение, словно он увидел молодого птенца, который еще и летать-то не умеет, кувыркается в воздухе. И глаза его помягчели. И только один шрам на лбу, в ямку которого мог бы войти легко пятак, оставался суров.
Стало смеркаться.
— Ну что ж, пойдем. Но прежде чем уйти, еще постоял несколько минут, глядя на гаснущее небо, и удивленно заметил: — Смотри, река рядом, а комаров нет.
— Мне нравится,— все так же негромко сказала Анна Николаевна.
— Ну, а коли нравится, то будем форсировать.
С этого дня жители районного городка видели его то едущим в грузовой машине, то быстро идущим с каким-нибудь мастеровым. Он сам вместе с помощником лесничего ходил в лес клеймить двадцатиметровые сосны, помогал рубщикам трелевать бревна к дороге, жег сучья, толкал машину, если она буксовала, и каждый раз возвращался домой за полночь, усталый, но удовлетворенный. Он был счастлив, когда от всей этой строительной возни выкраивался свободный часок и он сам мог взять в руки лопату.
Она легко, «на штык» входила в обильно смоченную осенними дождями землю. Корни трав с сухим, электрическим треском лопались, когда лопата отжимала отрезанный пласт от земли. И так шаг за шагом. И вот уже вскопана земля. На это дело ушел весь сентябрь и половина октября. Вместо чертополоха и лебеды на земле должны расти деревья. И вот уже стоит деревцо, потряхивает тоненькими косичками, радуется солнцу, жизни. И это дерево посадил он, Родионов, полковник в отставке. Оно будет расти годами, десятилетиями, даже и тогда будет расти, когда не будет на земле его.
Работы было так много, что день проходил мгновенно.
— Я и сотой доли не успел сделать того, что замышлялось с вечера, а солнце уже демобилизовалось,— удовлетворенно говорил он, ополаскивая натруженные, горячие руки в холодной, уже по-осеннему прозрачной речной воде. Все тело его было полно той сытой усталостью, когда хочется только спать.
Но спал он плохо, часто просыпался среди ночи.
— Ты очень много работаешь,— говорила жена.
— Глупости. Все хорошо. Главное — успеть с посадками. Весной знаешь, как все зазеленеет? Ты горожанка, а я парень крестьянский. Я за три года вижу вперед, что сделается с землей. У меня такое чувство, будто я должник...
— Ты уже говорил об этом...
— Да, и до тех пор буду говорить, пока не рассчитаюсь со своим долгом.
— Только береги себя. Молоко будешь пить?
— А как же!
Он пил молоко и был уверен, что сил у него много и здоровья хватит до старости. Но однажды случилось так, что сердце вдруг сорвалось, на мгновение замерло и тут же начало быстро и тревожно стучать, словно просилось домой, а его не пускали. Это произошло рано утром, когда он колол дрова. Резко махнул топором, что ли? Он чуть не упал, на какое-то мгновение все заволоклось туманом, но рассеялось быстро, и тут же он услышал, как часто стучит напуганное сердце. Потом прошло, и он опять перестал его чувствовать. К тому же после слякотной осени наступила морозная зима. Все побелело, стало спокойнее.
К этому времени дом был уже совсем готов. Небольшой, шесть на шесть — две комнаты и кухня,— он уютно тянул к небу синеватый дым. В окна светило морозное солнце. Было тихо, как обычно бывает тихо зимой за городом. Казалось бы, теперь можно отдохнуть, но не сиделось сложа руки. Родионов и не предполагал, что в его возрасте можно увлечься чем-то всерьез. Казалось, все лучшее позади, все, что могло звать, что заставляло мечтать, ради чего стоило стремиться к лучшему, ушло в прошлое, и вдруг появились веселые заботы, тревоги и радости за каждый куст, за каждое дерево: не обгрызли бы зайцы, не подточили бы мыши, не померзли бы тоненько чернеющие среди снега молоденькие саженцы.
— Сегодня буду делать скворечники,— говорил за чаем Родионов жене.— Штук шесть надо сделать.
— Скворушки — хорошо,— отвечала жена и задумывалась.
Жена слабо улыбнулась.
— Еще выпьешь чаю?
Да, покрепче... Сегодня проснулся от выстрела.
— От выстрела?
— Долго лежал, не понимая, приснилось или на самом деле стреляли. Меня ведь, знаешь, ничем не разбудишь (а она знала, что он от каждого шороха просыпается), но выстрел услышу на другом краю света. Долго лежал с открытыми глазами. И еще раз у самого уха рвануло.— Родионов скупо улыбнулся.— Мороз углы дома рвет.
— Ах, вот что,— облегченно вздохнула жена,— а я уж на самом деле подумала, может, кто стреляет... на зайцев охотится...
— Скорей бы весна,— выходя из-за стола, мечтательно говорил Родионов.
— Да, скорей бы весна...
— Весной хорошо. Ручьи бегут... Надо побольше цветов развести. Люди увидят — понравится, у себя захотят посадить. Это уж твое дело — цветы.
— Тюльпаны посажены. Есть семена хризантем.
Весны он не дождался. Умер. Еще утром ходил, радуясь солнышку, звонкой капели, готовил побелку для деревьев. Потом пришел домой, прилег отдохнуть. Она думала, он спит, и ушла в магазин.
Когда Анна Николаевна вернулась, в доме было тихо и сумеречно.
— Ваня! — позвала она мужа.
Он не отозвался. Тогда она включила свет, подошла к нему, тронула за плечо. Но он и тут не отозвался...
...Из-за куста донесся голос нового хозяина.
— Строить зачем? Надо брать готовое. Это самое выгодное.
— Но, знаешь, мне не нравятся простые деревья. Надо весь участок засадить земляникой. Я люблю ее со сливками,— послышался голос жены.
— Ну что ж, срубим. Наймем людей, и они сделают все...
Новые хозяева о чем-то еще говорили, но Анна Николаевна уже не слышала. Она была потрясена словами: «Надо брать готовое». Она, конечно, понимала: если что продается, то это кем-то сделано, оно готово к тому, чтобы им пользовались, по ведь тут совсем другое. Иван не жалел себя, нигде не жалел. Ни в войну, ни в мирное время. Был искалечен, подорвал сердце, и вот этот дом, эта земля — последнее, куда он отдал свои силы. И теперь они будут жить на готовом. Что ж это такое? Они берут наш дом и делают своим! Честные уходят, и их дом занимают чужие люди...
Она вышла из-за куста. Новые хозяева поняли, что Анна Николаевна слышала их разговор, и, несколько смутившись, стали ждать, что будет дальше. А она, словно впервые видя этих людей, недоуменно глядела на маленького, в выпуклых очках человека и его жену, тонконогую полную женщину.
— Вы еще здесь? — растягивая слова, спросил новый
хозяин и чуть наклонил голову, пряча за толстыми стеклами очков настороженный взгляд. Он не любил споры, шум, скандалы. А тут что-то назревало подобное, поэтому он и спросил, а вообще-то ему с ней разговаривать было не о чем.
— Я не продам вам дом,— бледнея, сказала Анна Николаевна.
— Он уже продан,— ответил новый хозяин и не удержался — торжествующе улыбнулся.
И жена его тоже торжествующе улыбнулась.
С реки налетел ветер, и молодые ясени, дубки, березы, клены, словно прощаясь, стали качаться, кланяться, замахали зелеными платочками.
— Нет, нет! — задыхаясь от волнения, сказала Анна Николаевна.— Деньги я вам верну, а купчая еще не состоялась, не оформлена... Это наш дом! Наш!