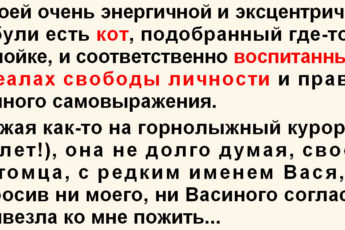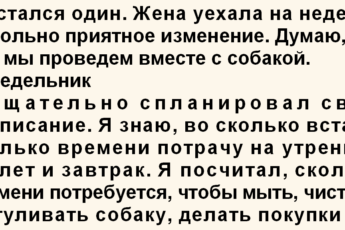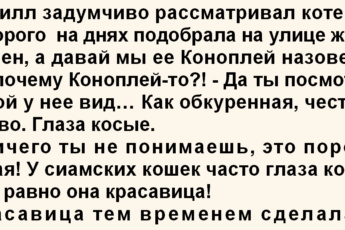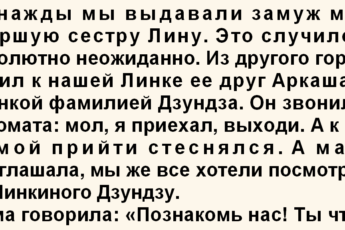Первый муж, за которого выдали когда-то Евфросинью, смешливую и задорную девку, Никон Оседкин — пропал в тайге на третьем году после свадьбы.
Осталась от Никона память — дочь Анна, рослая да пышнотелая, в мать.
Второго — ухаря и гуляку Василия — присушила Евфросинья не могучим своим телом, а тем добром, что сумела нажить.
Вдовый, серьезный, пожилой плотник Семен Кулагин стал третьим. Добрую пятистенку срубил он на пасеке, рядом со старой Евфросиньиной халупой. В халупе были поселены куры и поросенок. Но, жадный не по годам на работу, надорвался Семен Петрович, ворочая в одиночку тяжелые бревна. А Евфросинья выла, обижаясь на вечное свое вдовство.
В утешение остался Евфросинье дом, просторный и светлый.
Мимо пасеки через выгары убегала на север просторная дорога — трасса. Трасса кормила Евфросинью. Приисковое Управление облюбовало чистенькую пятистенку, под «заезжее» для трактористов и экспедиторов.
За крышу и за тепло под крышей платило деньги Управление.
Иннокентий Пятнов пришел на пасеку в потемках. Не помнил, как одолевал последние километры дороги, превратившейся в липкое месиво из глины, мокрого снега и воды. Впереди, далеко видимый с косогора, замерцал драгоценный огонек. Замерцал и потух— это Евфросинья, ложась спать, погасила лампу.
И тогда, Иннокентий заставил себя идти дальше.
Иннокентий прижался горячим лбом к закрытой двери, постучал плохо слушающейся рукой.
— Не ко времени тебя бог дает! — негостеприимно объявила Евфросинья, отмыкая заложку.— Я уже спать собираюсь. Обожди, сейчас лампу зажгу.
Зашлепав босыми ногами по полу, пошла к печке — пошарить на шестке спичек.
— В самое бездорожье угадал ты, парень! Нешто погодить нельзя было?
Он тут же, возле двери, опустился на пол. Евфросинья, зажгла фитиль, лампу поставила повыше — на перевернутую крынку.
— Ты чего? — оторопев, спросила она.
Иннокентий сидел на полу, бессильно уронив голову, дышал тяжело.
— Простыл я, видать, хозяйка... Трактор застрял на Светлой, я груз выручал. Простыл... В реке провозился долго. Грязи вот принес в дом...—Он медленно ворочал глазами, видя только огромные босые ноги Евфросиньи.
— Грязи принес... Не серчай...— повторил он и закрыл глаза.
И Евфросинья всплеснула руками, точно наседка крыльями, захлопотала:
— Не знаю, как тебя звать, скидавай одежонку-то свою, мокрая она совсем. Я тебе на нарах сейчас постелю. Как на грех, в самоваре углей не осталось, а тебе чаю с медом и с малиной надо.
До нар, прикрытых широким сенником, Иннокентий добрался сам. Неподатливую, тяжелую от влаги одежду стаскивала Евфросинья.
Двое суток не отходила Евфросинья от Иннокентия.
На третий день он впервые заснул спокойно.
Проснулся Иннокентий вечером.
— Хозяюшка! — позвал робко.
Она заспешила к нему со стаканом темного брусничного сока.
— Опамятовал, слава богу! Пить хочешь, поди?
— Нет... Обеспокоил я тебя...
— Так ты... Три дня около меня ходила? Как же это, а? Ведь у меня и денег теперь нет, расплатиться за хлопоты твои...
Евфросинья сурово поджала только что улыбавшиеся губы, пошла прочь от постели. Не оглядываясь, бросила:
— Ладно тебе, лежи... Нужны мне, поди-ко, твои деньги...
Утром, преодолевая слабость, он перетащился к окну и, радостно вздохнув, положил локти на подоконник.
— Эва он где! — удивилась вернувшаяся в дом Евфросинья. — Скорый ты шибко. Тебе еще лежать надо. Ложись-ко, я тебе шанег испекла свежих.
Пятьдесят лет без малого бобылем прожил на свете Иннокентий. Не замечая времени прожитых лет, он забывал, что годы все-таки летят, уходят, чтобы не возвратиться. Охотничья избушка в тайге была для него домом.
Первый раз в жизни Иннокентий подумал, что мог бы и у него быть — пусть даже не дом, а теплый угол, куда хотелось бы ему вернуться, где ожидали бы его возвращения.
Евфросинья — огромная, сырая, неуклюжая в сшитом мешком домотканом платье — хлопотала возле стола. А Иннокентий не видел ни тяжести походки ее, ни покрасневших на утреннем приморозке босых с косолапиной ног, ни широкоскулого мужского лица. Он видел и ощущал тепло, которым светились ее глаза.
Он уже забыл, каковы они, шаньги с творогом и молотой черемухой. Лепешки на сохатином сале, испеченные в охотничьей избушке, тоже похрустывали на зубах, были не менее вкусными.
На другой день, при помощи Евфросиньи, он выбрался на улицу и уселся на солнцепеке, щурясь от резавшего глаза гнета. Евфросинья вынесла доху и закутала застеснявшегося ее заботливости Иннокентия.
Его все больше завлекал мир, незнакомый доселе, в котором цветут герани на окнах, а заботливые руки бережно укрывают теплой дохой.
По зыбким мосткам через ключ перебрался Андриан и, закряхтев, сел рядом. В сивой его бороде запутались обломки соломинок.
— Пригревает!— сказал дед и мотнул головой, показывая на солнце.— Запоздала нынче весна, зато взялась дружно. Эдак, смотри, скоро и картошку сажать...
Поспешать надо будет тебе домой, баба одна не управится, поди? . .
Иннокентий посмотрел мимо собеседника погрустневшими глазами. С натугой роняя слова, точно сам не хотел верить в них, признался:
— Некуда мне... торопиться. Нету у меня дома... Нету...
— Ну-у? — не поверил ему Андриан.— Худо эдак-то, парень! Худо! Должон у человека дом быть, какой ни на есть, а дом! Пущай в дороге человек, а душа у него завсегда дома жить должна. Тогда человеку веселее и по земле ходить.
— Ноги, парень, не век по свету носить будут! — не унимался дед.— Надо было тебе загодя подумать об этом. Годов уже тебе немало...
Плотнее запахиваясь в доху, словно желая укрыться в ней от колючих слов, Иннокентий спросил, помолчав:
— Поздно ведь теперь, а?
Дед скорбно затряс бородой:
— Пожалуй, теперь поздно, парень. Кому ты нужон теперь, лядащий да и в годах? Старик ушел.
Иннокентий никогда не тяготился одиночеством, но гулкому, басовитому голосу Евфросиньи обрадовался.
— Замерз ай нет еще? Ну-ка ступай домой. Доху-то мне давай, я унесу...
Отсчитывал последние дни апрель. Иннокентий окреп настолько, что бродил теперь по двору, высматривая, к чему надобно приложить руки, зудившиеся по работе, но Евфросинья не верила в их силу, то и дело отнимала у него топор.
— Иди-ка отдохни. Нечего тебе. Сама управлюсь.
И все-таки Иннокентий выбрал время пересадить лопаты, починил обеззубевшие грабли, перекрыл двухметровой дранкой крышу сеновала над стайкой, повыкидал из стайки навоз.
— Вот спасибочко-то тебе, Иннокентий Павлович! — сказала Евфросинья, радостно оглядывая новую, розовую в лучах солнца крышу.
Он выздоровел, пора было уходить. Уходить не хотелось. Хотелось остаться.
Остаться, чтобы уходить и возвращаться сюда опять и опять, в теплый угол, где будут его ждать. Он знал, чувствовал, что нужен здесь. Что ему нужно и можно быть здесь.
Но как мог он заговорить об этом — прохожий, попросившийся только переночевать?
Почему-то робела заговорить первой и Евфросинья. Последние дни она стала приглядывать за собой, обновила и уже не прятала в сундук коричневое фланелевое платье. Сменила на сапоги старые, латаные опорки, в которых доила корову и работала во дворе. По вечерам набрасывала на плечи цветастый шерстяной платок. Рассказывала, искоса поглядывая на Иннокентия:
— Конечно, жизнь у нас не то, что в поселке. Дочка со своим, в Енисейск уехала. Тоскливо. От людей на отшибе зато в достатке.
Он слушал, потирая ладонью шибко защетинившийся подбородок, изредка вставляя несколько слов.
Перевернув кверху дном опорожненный стакан, сказал хмуро:
— Спасибо. За все спасибо тебе, Евфросинья Васильевна. За хлеб, за соль. Век помнить буду твою ласку. Однако, пора мне и в путь собираться. Завтра думаю по холодку выйти...
Евфросинья молчала, разглаживая на коленях платье, не отрывая глаз от больших, все умеющих своих рук. Широкие скулы ее медленно заливал густой румянец.
Иннокентий думал о том, что завтра он, может быть, уйдет навсегда отсюда. И он уйдет, если Евфросинья будет молчать.
Его разбудил дождь, барабанивший по стеклу. Евфросинья возилась у печки, пахло закисающим тестом, жареным мясом.
«Худо! — подумал Иннокентий.— Худо уходить в такую погоду».
Но тут Евфросинья разогнула спину, повернулась к свету, и он понял, что уходить никуда не нужно.
Некрасивое лицо Евфросиньи светилось смущенной улыбкой. На праздничном платье из коричневой фланели красовалась эмалированная брошка, изображавшая голубя с письмом в клюве. Аккуратно зачесанные волосы покрывал синий шелковый платок с белыми горошинами.
Уходить было не нужно. Иннокентий знал, что она скажет.
Теперь у него есть место, куда он будет возвращаться, усталый и промерзший, куда будет он торопиться из своих охотничьих странствий. Он всегда будет торопиться, не забывающий, что его ждут здесь.
И Евфросинья понимала, что он знает об этом. Оттого и не торопилась сказать.
Затискав руки в узкие рукава старой телогрейки, перекинул котомку за спину.
— Уходишь? — сердце Евфросиньи сжал холод.
Разве не его звала она, томясь по ночам? Ждала его, чтобы, радостными слезами выплакав, позабыть навсегда горести и печали бабьего сиротства, чтобы опора и заступа были у нее в жизни. Дождалась, а он уходит теперь? Неужто каменный совсем человек, а для нее нет у судьбы счастья?
Иннокентий, отворотясь к окошку, разбирал пачку каких-то бумажек. Найдя нужную, аккуратно сложил вчетверо и спрятал.
— Деньги у меня за конторой, получить надо! — Муку-то какую в райпо брать? И сколь? Куля три по теперешней дороге привезть можно, я думаю, а коня в конторе дадут.
Она еще не поняла, не успела понять, почему заторопился он в контору. Зато поняла самое важное: это муж и хозяин торопится по делам! Спросила робко, отворачиваясь, чтобы не увидел слез:
— Ты бы поел чего, Кеша? Путь дальний.
— Хлеба возьму в дорогу.
Ему следовало спешить. Он хотел, чтобы в теплом углу, который обретен им, хватило тепла на всех...

Автор: Летописец