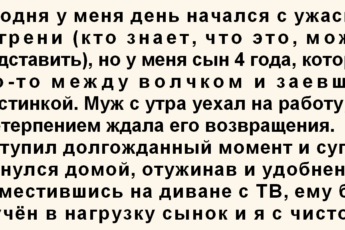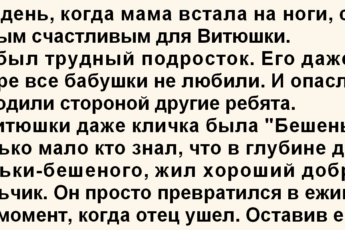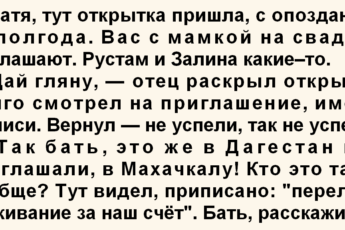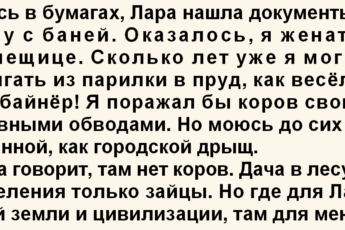— Слушай, вы поживете с бабушкой у нас, пока мы с папой в санатории будем? Я и ее одну оставить не могу, и сама едва ноги таскаю. Может, сумеете?
У мамы было совершенно детское, потерянное лицо, когда она говорила на эту тему, а голос был такой несчастный, что не было просьбы, в которой я могла бы ей отказать, а уж тем более в этом. Бабушка нас с сестрой вырастила, мы ее обожали, как бы не чудил над ней возраст, не только подворовывая здоровье и силы, но и прихватывая память, редактируя характер и подсовывая неожиданные странности.
Это не имело никакого значения, я брала летом бабушку на дачу, где все равно должна была пасти маленькую дочку и, хотя в силу спартанских условий там было потруднее, отлично с ней ладила. Если бы и сейчас, осенью, ее можно было перетащить к нам в Гольяново, я б ни на секунду не притормозила. Но в Гольяново квартирка была малюсенькая, там бабушку и уложить было негде, а здесь у нее отдельная комната. Однако мама так волнуется неспроста, она знает, что существует реальная проблема нашей жизни в их квартире на Ленинском.
Проблема была, собственно, совсем не в бабушке, а в ее с родителями соседях и по совместительству бабушкиных старинных друзьях — Фире и Науме Цикерзонах. Они ждали моего приезда, как голодный орел — свежей печени Прометея, тем более, что я тоже была прикована к месту, как греческий страдалец!
Когда-то, тьму лет тому назад, когда совсем молодая бабушка, после смерти мужа, с юной моей мамой поселились в половинке старого дома в Малаховке, Фира и Наум Цикерзоны оказались их соседями напротив. Дочка Цикерзонов Инка была ровесницей моей мамы, они сразу подружились и соединили родителей. И уже тогда Цикерзоны относительно рано овдовевшей безутешной соседки ощутили себя старшими товарищами, главными наставниками и контролирующей организацией в одном лице.
Они торчали у нас день и ночь, влезали во все дырки, должны были стоять у изголовья в горе и радости, дирижируя любыми процессами, решениями и расходами, и через много лет, когда мама уже вышла замуж и они с папой получили московскую квартиру, папа, хихикая, говорил, что главным ее достоинством будет отсутствие Цикерзонов в красном углу. Но бабушка к ним очень привязалась, они поддержали ее, отвлекли и скрасили тяжелое время острого ощущения потери и одиночества, так что бабушка Циля считала их своими лучшими друзьями и в обиду не давала.
С Цилей Цикерзоны никогда не ссорились и были к ней, конечно, привязаны, но это был для них очень нетипичный пример взаимоотношений. Со всей остальной Малаховкой, да и за ее пределами, они были в состоянии войны по типу вьетнамской — когда методы использовались в основном партизанские, нетрадиционные и особенно мучительные. Дом. в котором они жили, был на три семьи: староверы Кошелевы, ювелир Зелькис и Цикерзоны. У Кошелевых была половина дома, высокий забор, две злобные псины и бодливая коза, брат в поссовете и зять-прокурор. Так что к ним претензии если и были, то исключительно в скрытой форме. А вот с Зелькисом можно было побороться!
Наум Цикерзон служил в госсаннадзоре, отвечал за рыбу, проверяя коптильни, консервные заводы и магазины типа Океан, поэтому домой возвращался на казенной машине и долго выгружал перед окнами Зелькиса аппетитно пахнущие свертки, коробки и ящички, видимо, чтоб уравновесить дома запахи, которые приносила Фира, ведавшая в малаховской поликлинике анализами. Зелькис цепким глазом ювелира определял вес добычи с точностью до карата и тут же каллиграфическим почерком строчил донос. Наум тоже не отставал, поэтому у Зелькиса время от времени раздавались вопли, звон и причитания, вылетал из окна пух и перо, как при погроме, и соответствующие специалисты искали золото-брильянты.
В перерывах Наум и Фира успевали поскандалить со сдающими анализы посетителями поликлиники, участковым врачом, ассенизаторами, почтальоншей, дочкиными школьными преподавателями, керосинщиком Штаркманом, молочницей Клавой и торговками на малаховском рынке. Тем не менее Зелькиса арестовали первым. Но Наум Цикерзон порадоваться успеху толком тоже не успел — его взяли на левых копченых угрях неделей позже, перечитали летопись славных дел, подверстанную до этого Зелькисом, и не поскупились на восемь лет усиленного режима.
Фира со взрослой Инкой, жившей, как и мы, уже в Москве, продали осиротевшую малаховскую халабуду староверам Кошелевым и исчезли. Телефонов тогда в Малаховке не было ни мобильных, ни каких-то других, так что только редкие звонки моей мамы Инке Цикерзон приносили какие-то новости. А потом Инка два раза подряд развелась, переехала и следы ее семьи затерялись. Бабушка Циля искренне горевала. Каково же было ее ликование, когда лет через пятнадцать, не меньше, мы получили новую квартиру на Ленинском проспекте и первым, кого мы встретили в подъезде, был поседевший, потрепанный жизнью, но мгновенно узнанный Наум Цикерзон. Оказалось, что в результате бесконечных инкиных поисков счастья все они оказались двумя этажами выше над нами. Бабушка была так рада, что не дала родителям даже посмотреть другие варианты новых квартир, и мы стремительно переехали. И начался бабушкин нескончаемый праздник и наша пытка.
Цикерзоны постарели, сильно сдали, Наум стал везде трясти какой-то невнятной справкой, выдавая себя за жертву сталинских репрессий, хотя сел уже после снятия Хрущева. Он и Фира продолжали искать счастье в борьбе, но территория возможных сражений заметно сузилась, жизнь была подчинена железной экономии, особенно ощутимой и унизительной после рыбного разврата, Инкины перспективы тоже были так себе, поэтому Цикерзоны сосредоточились на нас.
В тот момент, когда за моими родителями закрывалась дверь и они уходили на работу, грохотал лифт — это Цикерзоны спускались к нам на второй завтрак. Наворачивая деликатесы из папиного служебного спецбуфета, сохранившиеся в памяти Цикерзонов из жизни периода санинспекции, они хором жалели и оплакивали мою бабушку Цилю, которая вынуждена питаться такими недиетическими продуктами и подрывать свое бесценное здоровье. А всё потому, — утверждали Цикерзоны, — что две здоровые кобылы-внучки, очевидно не берегут любимую бабушку, а, напротив, желают ей скорой смерти от неправильного питания, да и вообще уделяют ей мало заботы, внимания и сил. Эта концепция бабушке очень нравилась.
Поев сама и накормив Цикерзонов, после кофе со штруделем, бабушка Циля подхватывала тему собственных мук, заливалась слезами, говорила:"Я не трэбую любов, но игде лементарное уваженя!" или «Када эти руки били нужные — они-таки били нужные, а тепер — на помойка...» и заходилась от сочувствия к себе. Это был ежедневный триумф Цикерзонов и справедливая компенсация за их страдания. Цикерзоны не давали нам с сестрой шагу сделать, чтоб не прочесть мораль или не поставить на вид. Вот этого-то я и с ужасом ждала, думая о переезде к родителям на время их отсутствия.
— Мам, ты же знаешь, я с бабушкой — с радостью! Если бы не Наум с Фирой — вообще без вопросов! Только они меня смущают...
— Ты что, не знаешь??? Ах да, пока вы уезжали на море, здесь столько событий произошло. Сначала Наум, в самую жару, поперся в какую-то ветеранскую контору, что-то там требовал, скандалил, сначала стало плохо его оппоненту, потом — самому Науму, вызвали скорую, сволокли их в Первую Градскую и к вечеру не стало обоих. Фира гостила в это время у племянницы на даче, Инка поехала за ней, а, приехав, обнаружила там суету и скорую — Фира упала, сломала шейку бедра. Ее отправили в областную больницу, дней восемь она промаялась — и всё. Но бабушка про это не знает, что ты! Я даже не представляю, как ей сказать...Всю жизнь с ними продружила, она же с ума сойдет, вообще может не пережить этой новости! Пока я ей вру, что они в больнице на обследовании, поэтому и не приходят.
Мы переехали на Ленинский, жили с бабушкой очень мирно и дружно, если бы не одно. Она скучала. Причем, я бы даже сказала, что не столько по Фире и Науму, сколько по этим сочувственным причитаниям и обсуждению тягот ее существования. Утром, пока я судорожно собиралась на работу и одновременно готовила ей завтрак и обед, Циля ходила за мной и нудила:" Никому до мине нету дела...Никто не видит, шо как я плоха себе чувствую... Правильно говорит Фира, шо нужно показаца профэссор. Но кто об етом почешется?! А дело об нету интереса, шо со мной будет. А мине нада как с человэком, мине между прочим будет 89!
Шо ты делаешь на обед? Куриные котлеты? Они мине надоели. И цветную капусту я не люблю! Пожарила бы утку или, я знаю, запекла бы буженинки!" — «Бабушка, ну какая жареная утка в твоем возрасте!» — «Да, и Наум говорит, шо у меня недомоганя от неправильного питаня! Вот ик Фира с Наум ув семье совсем другая отношеня! Не успело шо-то кольнуть — и они уже ув больнице, там их крутят-вертят профэссора и они вийдут как новенькие! И переживут мине уж точно!» На этих словах у бабушки всегда от жалости к себе и зависти к Цикерзонам перехватывало горло и я убегала на работу под ее сдавленные рыданья.
И в один день я не выдержала. Не задался как-то день. И на работе все было не так, как надо, и не успевала ничего, и с мужем поцапалась, и тут еще эти причитания: «Вот ув Наум с Фира по-другому! Вот ик ним другая отношеня! Им таки больше повезло...» Я осатанела и заорала: «Бабушка, позавидуй кому-нибудь другому, а то Фира с Наумом там на небесах смеются над тобой!» Выкрикнула — и похолодела...Сейчас она это осознает и неизвестно, что будет! Какая же я идиотка и сволочь! Не могла придержать язык за зубами! Она старенькая, в чем душа держится, почти девяносто лет, а я, как придурок бессердечный, со своей правдой! Что будет?..
Бабушка Циля мгновенно перестала причитать. Она присела на кухонную табуретку лицом к окну. Минутку помолчала. Потом неожиданно звонко сказала: «Невжели уже оба?! Всегда им везло! Не успели ув больница попасть, как уже раз — и на небесах! А тут живи и мучайся!» Она хмыкнула, насмешливо посмотрела на меня синими, ничуть не вылинявшими глазами, и сказала: «Свари мне кофейку покрепче и дуй на работу!»

Автор: Татьяна Хохрина