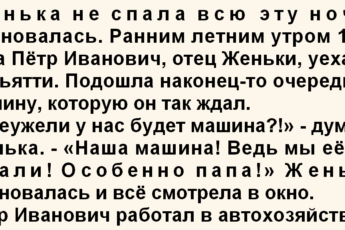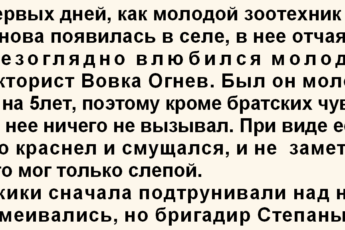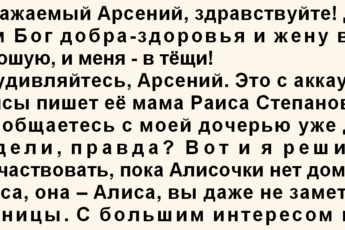В моем деревенском детстве были все традиционные радости пасторального бытия: кареглазая корова Зорька во дворе, необъятных размеров русская печка в доме и бескрайний лес, начинавшийся прямо за огородом. И, конечно же, в нем была бабушка, Сусанна Индисовна, — сибирская казачка с трудной судьбой и непростым характером. Характер ее и был причиной того, что называлась она по разному — бабка, бабушка, бабуля...
Сельское утро пробиралось в сон запахом свежих ватрушек и сердитым бабкиным голосом — стоя у русской печки она вела громогласные беседы с Господом Богом. Выразительные монологи, обращенные к Творцу, всегда начинались одной и той же сакраментальной фразой. «Господи! Согрешила я с ними, грешная!» — истово взывала бабка и принималась бойко перечислять свои и чужие грехи.
Хорошо информированный советский ребенок, которым я в то время была, отлично знал, что никакого Бога нет, а недовольная жизнью бабка — пережиток. Мне очень нравилось непонятное звучное слово «пережиток» и отсутствие Бога на белом свете. Судя по рассказам, Бог этот был какой-то противный и неутомимо наказывал людей. Меня и без Бога-то норовили наказать все, кому не лень, поэтому в опасном царстве взрослой несправедливости Бог становился дополнительной проблемой.
Выйдя из горницы в Избу я чаще всего пыталась незаметно стащить со стола румяную ватрушку, но пережиток видел спиной и кричал грозный упреждающий укорот: «Куда ты тянешь свои паклИ? Немыта-нечесана, едва глаза продрала... Иди умываться!»
Умываться я не любила. Раз в неделю вредимая бабка хватала меня в охапку и волокла в баню, как царевну Будур из известной сказки. Орала я намного громче замарашки Будур и наши с бабкой банные баталии наверняка слышало пол-деревни.
В бане было мокро, душно, темно, многочисленные болячки, ссадины и царапины немилосердно щипало мыло, мой протестующий ор сменялся ее яростным сопением и, закончив битву за чистоту, мы валились по углам предбанника, как два упыря, вдоволь напившиеся вражьей крови. После этаких эксцессов умыванье казалось занятием пустым и нелепым.
Для видимости поплескав в глаза водички, я выпивала поллитровую кружку утрешнего молока с ватрушками и начинала ругаться с бабкой. Ругань была неизменным украшением наших деревенских утр.
Обычно я включалась в перебранку, услышав коронную фразу «Согрешила я с ними, грешная!», и, направив в сторону противницы указательный палец с обломанным ногтем, заводила пронзительно-обличающим голосом:
— Агаааа! Ты согрешила, со-гре-ши-ла! Тебя зажарят черти на сковородке в аду!
Перспектива стать зажаренной чертями приводила бабку в неописуемое возмущение, которое тут же взрывалось гневной тирадой:
— Ах, ты негодница! Ах, ты зубатая собака! Глаза продрать не успела, зубы уставлять начала! От горшка два вершка, а зубы выше носа! Черт тебя надавал на мою голову!
По моим понятиям надавать можно было по шее или под зад коленом. Как можно надавать меня, оставалось неясным...
Мне сейчас же воображался крупный мохнатый черт, обвившийся длинным хвостом, сидящий на какой-нибудь верхотуре, типа бабкиных икон. Черт кривлялся, корчил рожи и шустро пулял в бабкину голову много-много маленьких меня. Это веселое безобразие и называлось — «черт тебя надавал».
Обнаружив на моей физиономии широчайшую улыбку вместо раскаянья, бабка впадала в раздражительное буйство и религиозная войнушка стремительно набирала обороты.
— Ах, ты басурманка, чтоб тебе повылазило! Посмотрите на нее добрые люди, ты ей слово, она — десять, ты ей десять, она — сто! От семи собак отлается, горлодерка! Лба не перекрестила, черта вспомнила, согрешила я с нею, грешная!
И, замерев посреди избы, бабка простирала в мою сторону суровую длань, восклицая с трагическим пафосом провинциальной актерки-бенефициантки:
— Ты — Жё-ва-но-ешь!
Кто такое Жёваноешь я по малолетству никак не могла уразуметь. Казалось мне, что Жёваноешь этот — самое обзывательское на свете обзывательство, ответить на которое соответствующим обзывательством совершенно невозможно. Оставалось покрепче упереть руки в боки, посильнее выкатить глаза и погромче выкрикнуть в ответ:
— Сама ты — Жёваноешь!
После этой выразительной реплики христианское смирение окончательно покидало театр военных действий и разъяренная бабка бросалась в рукопашную.
Следовало побыстрее уносить ноги, потому что дралась она отлично, ее сухие коричневые кулачки орудовали очень ловко, оставляя повсюду болючие разноцветные синяки.
Я развивала предельную скорость, выкрикивая: «А ты — пережиток, пе-ре-жи-ток!»и, метнув в противника последнюю парфянскую стрелу в виде дразнилки, типа «Москва-Воронеж, фиг догонишь!», удирала, радостно хохоча, на вольную волю — в лес, на речку, на конюшню к любимому дядьке или за деревню в поле...
Когда к обеду я возвращалась домой, зленная бабка исчезала без следа, а на ее месте обнаруживалась спокойная приветливая бабушка Саня.
Встречала она меня одним и тем же вопросом: «Наполкался, Полкан?» И, узнав, что наполкавшийся Полкан зверски голоден, начинала метать на кухонный стол нехитрую, но вкусную снедь, попутно выслушивая деревенские новости, которые сыпались из меня, как горох из драного мешка.
Новостей всегда было много: местный пьянчужка и дебошир Шкура Барабанная опять поругался в сельмаге с продавщицей Тонькой; лошадь Ракета совсем окривела, скоро ее перестанут брать на работу и отдадут нам; в доме с морковными окошками наглая молодая свинья Нюшка наелась бражного сусла, ходила по деревне пьяная, громко хрюкая и валясь на палисадники, потом ускакала за речку и рухнула в овраг.
Дружно отобедав, мы расставались до вечера очень довольные друг другом.
Вечером бабушка Саня превращалась в любимую бабулю — уставшие за день ноги уже не бегали, а ходили, наработавшиеся руки просили отдыха, голос мягшел, беспокойные глаза становились добрыми и лучистыми.
Вечером нас ждало самое лучшее — песни и книги. Ей, кажется, незнакомо было понятие «напевать». Песни она всегда только пела, — глубоким грудным голосом, выпрямив спину и уведя глаза в дальний угол избы. Старые казачьи песни, непонятные и непривычные, я могла слушать часами, забывая обо всем на свете, как в глубокий колодец проваливаясь в магию слов и мелодий.
Томики Пушкина, Некрасова, Кольцова, Никитина ждали в горнице на этажерке. Научившись читать самостоятельно, я быстро обнаружила, что бабуля не столько читает, сколько декламирует стихи, которые помнит наизусть страницами. Была она охотницей до книг, грамоте выучилась рано и в юности читала при ясной луне, потому что строгий батюшка, жалея дорогой керосин, не позволял жечь по ночам лампу.
Но самым редким удовольствием были не стихи и не песни. Две большие книги, аккуратно завернутые в чистое полотенце, лежали в старом сундуке, дожидаясь особенного настроения. Когда они извлекались, бабуля тщательно изучала мои ладони, руки торжественно перемывались без всякого ропота с моей стороны, и начиналось священнодействие.
Это были два внушительных тома Бальзака на французском языке. Как очутились они в сибирской деревне, не знаю. Читать мы их, конечно, не могли, но в книгах были иллюстрации — в полный лист, под тончайшей папиросной бумагой, сквозь которую проступал таинственный фантастический мир.
И два ребенка, старый и малый, замерев от восторга, рассматривали огромные пылающие люстры, крутые беломраморные лестницы, пышные платья красавиц и гордые мужские лица. «Всё грАфы...» — уважительным шепотом поясняла бабуля и гладила плотные страницы с трепетной нежностью, как редких невиданных птиц, чудом залетевших в привычные будни.
Еще один культовый предмет был в бедном бабушкином доме — ручная швейная машинка, которая звалась — Подольская. В детстве я искренне считала, что Подольская — фамилия швейной машинки. Подольскую бабуля получила от государства в обмен на пятьсот штук свежих куриных яиц.
Узнав о моем появлении на свет, она, надолго ограничив и без того скудный свой рацион, терпеливо собирала их в погребе, заполняя хрупким содержимым две плетеные корзины.
Затем, повесив корзины на коромысло, осторожно подняла ценный груз на плечи и пошла в райцентр.
Двенадцать долгих километров несла она свежие яйца вместе со светлой мечтой о том, как народившаяся внучка вырастет, сделается портнихой и обошьет всю родню разноцветными веселыми обновками на вожделенной Подольской. Обратный путь оказался легче, перетянутая ремнями машинка была той долгожданной ношей, которая не тянет.
Машинка обитала на специальной тумбочке и постоянно смущала мой любопытный ум — нестерпимо хотелось покрутить блестящее колесо, повертеть непонятные детальки, но еще сильнее тянуло слямзить маленькую тоненькую отверточку, проживавшую в специальном ящичке.
Однако, приближаясь к домашнему идолу, я неизменно слышала свирепейший и мощнейший по силе чувств укорот: «Подольскую — не трожь!», благодаря которому мне так и не удалось ее раскурочить.
В выходные приезжали родители, чаще всего — папа, время от времени пытавшийся забрать в город любимое чадо. Услышав об этом, бабушка взмахивала руками, падала на лавку в избе и возмущенно восклицала: «Как же это — забрать?! Я еле пикаю!»
Начиналась увлекательная игра в елепикающую бабулю, которая определенно слаба, стара и беспомощна, ибо глаза ее не видят, уши не слышат, ноги не ходят, а руки не делают.
Пока она охала, изображая бледную немочь, я носилась, как резвый жеребчик, в погреб — за сметаной, в огород — за луком, на колодец — за водой, весело играя в умницу-разумницу, добрую помощницу, без которой елепикающая бабуля непременно сляжет, а то и, чего доброго, в одночасье помрет...
Папа сдавался быстро и утром следующего дня, проводив его на первый автобус, она обращалась в привычную вредину, повторяя давно знакомое — «согрешила я с ними, грешная», «черт тебя надавал» и «жевано ешь».
Так мы и прожили вместе бОльшую и лучшую часть моего детства, расставшись в тот неизбежный год, когда мне пришло время пойти в школу.
Умерла она в городе. Приехала на очередное моё рожденье, внезапно слегла, быстро поняла, что уже не встанет и, сказав растерянному папе: «Управилась я, сынок, пора и честь знать»- взялась за последнее свое земное дело.
На мой беззвучный вопрос ответила коротко и спокойно: «Денька три-то поживу еще, у Бога дел много — рай прибрать надо». И ровно на третий день ушла, словно растаяла, улыбаясь чему-то неведомому, ясному только ей одной.
Именно тогда, в тайне от взрослых, я отчетливо поняла, что Бог существует и он обязательно прибрал рай для любимой моей бабули. И в этом, только ей одной принадлежащем раю, ее уже ждут все, кого она так неистово и странно любила на земле.
В раю непременно окажется ее непутевый муж, неизвестным бедовым ветром занесенный в глухую сибирскую деревню. И так странен, так ни на кого не похож был этот пришлый чужой загадочный человек, что она, первая деревенская красавица, богатая невеста, неделю на коленках ходила по дому за суровым батюшкой и, валяясь в ногах, выпросила, Христом Богом вымолила для себя этого немыслимого невозможного мужа.
И прожила с ним девять лет — как песню спела, сияя глазами и всей собой. И едва не лишилась рассудка, когда он исчез так же внезапно, как появился — в один день, никому не сказав ни слова. «Говорёно было, — приблуда, дурной человек!» — заключила рассудительная деревня.
Она и не спорила ни с кем, только губу закусила покрепче, да так и прожила оставшуюся жизнь с закушенной этой губой, так никого и не допустила до себя, надеясь и, вопреки всему, отчаянно веря, — вернется...
Там, в светлом раю, ее обязательно встретят властный, строгий батюшка и четыре старших брата — рослые, похожие на отца, казаки с жаркими упрямыми глазами, — все пятеро любимые и убитые во время раскулачивания в жестокой горячечной свалке.
И остальная, в тот проклятый день осиротевшая, огромная семья обязательно встретит ее на пороге рая — мачеха, сводные братья-сестры, золовки и племянники, все, кого угрозами и уговорами затолкали на подводы вместе с подушками и ребятишками, и погнали «из Сибири в Сибирь» по пыльной дороге в страшную неизвестность, где они и сгинули безвозвратно.
Только ее и пощадила новая недобрая власть, потому что даже у такой власти не хватило смелости обрушиться на молодую, мужем брошенную, мать пятерых ребятишек.
Она осталась одна на пыльной своей дороге, выслушав последний наказ охрипшей от крика и слез мачехи: «Подымай детей, Саня!» — и про тогдашнее положение свое всегда говорила коротко, зло и выразительно: «Пять ртов, пять могил», потому что одно-единственное было теперь у нее на свете дело: рты — кормить, могилы — обихаживать.
А в самой высокой, самой солнечной горнице сияющего рая ее давно уже ждут два старших сына, которых, одного за другим, проводила она на последнюю войну, да так и не дождалась назад.
Их она вспоминала вслух совсем уже редко и только 9 мая, достав из сундука две обрамленных фотографии, смахивая несуществующую пыль, проводила ладонью по лицам, выдыхая-выстанывая тихое «сы-ноч-ки...» и поскорей убирала, прятала назад в сундук у дорогого заезжего фотографа заказанные портреты, которые так никогда и не узнали стен.
Там, в раю, она долюбит их всех, незабытых, потерянных, отнятых бессмысленно-безжалостным временем, несправедливой жизнью и страшной судьбой. И напоется она в том раю — всласть, и напляшется — вволю, и нарадуется яркими нарядами ее озорная, неубитая душа, и будет, обязательно будет так отчаянно, так звонко счастлива, как никогда не была счастлива на земле!
Иногда, в том зыбком промежутке между явью и сном, в котором все возможно и все с нами случается, меня словно теплым старым тулупом накрывает запахом деревенских лепешек, которые, кажется, только она одна и умела стряпать.
Лепешки назывались смешно и непрезентабельно — «коровники», но вкусны были такой неповторимой сладостной вкуснотой, что я и сейчас легко узнАю среди тысячи других их особенный незабываемый вкус, который существует уже только в моей памяти, в почти нереальном детстве, в утренней деревенской радости жизни...
Я хитро думаю во сне, как встану, шустренько стырю из под носа у вредины-бабки парочку свеженьких коровников и удеру поскорее на речку, где уже ждут мальчишки...
И отчетливо слышу ее громкий сердитый голос: «Господи! Согрешила я с ними, грешная!»
Автор: Лариса Ермолаева