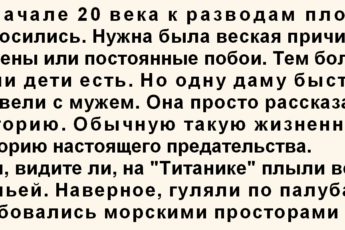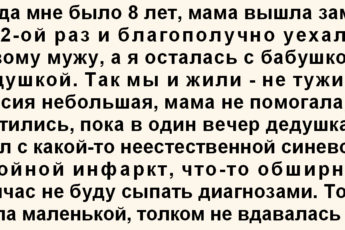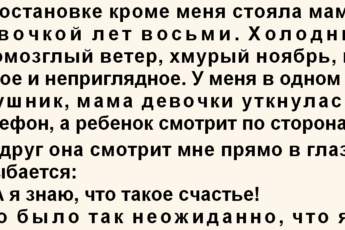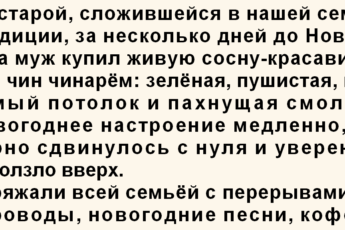Истребитель, серебристой гулкой птицей клюнул расцветающий безоблачный день, плавно отрывая себя от земли, в последний раз давая возможность шасси нежно поцеловать холодный асфальт родного аэродрома. Поджав их под себя, боевой самолёт тянул и тянул ввысь, в синеющую высоту, чтобы потом сделать прощальный круг над «своими».
Лётчик посмотрел назад, вниз, грустно улыбнулся, подумал: «Прости!.. У нас с тобой такая судьба! Прощай… не поминай лихом. Я тебя буду помнить всю оставшуюся жизнь!» — по шрамной щеке боевого лётчика, прошедшего страшную войну, заскользила прозрачная капля горькой беспомощной воды.
Внизу, по сереющей полосе, за последней улетающей железной птицей, по всю прыть нёсся собака, как будто пытаясь догнать её, в кабину прыгнуть, с ним улететь. Красивая крылатая машина, облетая «своих», на прощание покачала крыльями, и взяла курс прямо навстречу нарождающемуся солнцу, совсем уже другой жизни.
Внизу никто не махал, все стояли застывшими изваяниями. Некоторые военные густо курили, злобно сплёвывая горькую слюну, проклиная тех, кто это удумал. Иные, всё ещё смотрели вдаль, до конца не прочувствовав, что это происходит именно с ними. Третьи суетились на сиротливых лётных площадях, ещё не веря, что сюда уже никогда не сядут их любимые крылатые машины.
На окраине аэродрома, там, где низкорослый берёзовый околок уже окрашивался в осеннее золото, на самом краю бетонки сидел пёс, и смотрел в небо, где ещё чуточку гудело, где слабо-слабо виднелась точка улетающего командира полка, его друга.
В курилке вдруг замерли хмурые курцы, крикнув остальным — помолчать. Народ вслушивался в осенний воздух псковской остывающей земли, не понимая внезапных звуков. На другом конце полосы, волком выл их всеобщий любимец.
***
Чуть ранее. 15 января 1960 года, Верховный Совет СССР без обсуждения утвердил закон «О новом значительном сокращении вооружённых Сил СССР». Из армии и флота предполагалось уволить до 1 миллиона 300 тысяч военнослужащих, из них более 250 тысяч офицеров.
Но рассказ будет не об армии, и последствиях того скоропостижного и необдуманного действа. Рассказ будет о собаке-волке, или по-научному — Волкособе, — редком звере, который вырос можно сказать на аэродроме, который не знал совсем другой жизни.
В один миг поменялся мир, рухнул, для всех в этом полку – получив скорый приказ на расформирование, порой увольняя без пенсии, даже тех, кому осталось всего год до неё. Со временем все убыли, все покинули обжитые места.
Наступила тишь, мертвая немь! Всё закрыто, заколочено, только ветер носится по опустевшей части, городку, и редкий часовой, ёжась от холода, ругаясь, пробурчит, под нос споёт свою нерусскую песню, совсем не обращая внимания на четырёх голодных псов, оставшихся сиротами после исчезновения крылатой братии.
Сломанная жизнь требовала действий. Крупный чёрный пёс, в несложных драках подчинил себе некоторых дворняг. И чтобы выжить, они побежали по гравийке, туда, куда ходят грузовые машины, туда, где есть ещё надежда, пугающая тайна, и лес, лес, лес! Туда, где крупным посёлком живут совсем другие люди.
Незнакомыми, чужими вбежали на чужую территорию, где обретая место под солнцем, вновь пришлось скалить клыки, драть чужие жизни, кашляя своей кровью, покрывая свои исхудавшие шкуры рваными шрамами.
К морозам, в его банде, уже было восемь бродячих собак. Пёс, имея редкое крепкое сложение, имел одну особенность, которую сразу заметили гражданские люди. Зверь очень редко лаял, и то, когда бесстрашно дрался с себе подобными, а в основном жутко рычал, устрашающе скаля острые крупные клыки.
Каждая псинка в его своре, могла с рук унизительно взять вкусненькое, аппетитно пахнущие. Голод ведь не добрая тётка! Только этот крупный тёмный зверь, не двигался с места, пристально изучая всякого; и пьяного и трезвого трусоватого благодетеля, тыкающего в его звериную личность вкусным куском.
Всегда отходя от таких, гибрид волка и немецкой овчарки вскидывал морду к верху, всасывая ноздрями недовольный воздух, и горделиво удалялся от кормильца. Чей-то людской глаз, чётко подметил его души особую сущность, прилепив к нему кличку «Гордый!»
Маститые охотники в нём сразу угадывали кровь волка, не удивляясь такому авторитету среди бродячей «братвы». Эта «банда», как окрестили местные эту «кодлу» никогда не нападала на людей, спокойно дружила с детьми, тем самым избежав отстрела, заслужив себе репутацию терпимых божьих тварей.
Обосновалась свора на краю села, на лесопилке, под пилорамой, в тёплых опилках. Спали прижавшись друг к дружке, до прихода мужиков исчезая на просторы таёжного поселка, с единственной целью, — выжить! То есть, найти чего- нибудь погрызть, похлебать, проглотить. Когда поджимали морозы, свора перемечалась туда, где было хоть чуть-чуть потеплее. Со временем собачья команда заимела друга, в лице повара с леспромхозовской столовой.
Однажды женщина, молоденькая повар, увидела их многочисленные голодные глаза перед порогом столовой. Собаки лежали на снегу, и смотрели на дверь, на неё, словно знали, что здесь обязательно помогут. Наперекор тогда пошла женщина своей ушлой сменщицы, что держала в частном доме себе хрюшек, — бездомным вывалив все вкусные отходы, с того времени заработав себе неуступчивого врага на работе.
Которая с угрозой тогда крикнула ей, уже поняв, что сердобольная молодуха навсегда взяла собак на своё сердечное и «отходное» содержание: «Корми-корми… — я сыну скажу, он всех твоих дворняг в раз постреляет» И стрелял подлец, двум несчастным душам оборвав жизнь. Гордый быстро выучил урок, стараясь избегать людей с оружием.
Однажды, вдруг оживился посёлок, направив технику на край посёлка. Задвигались механизмы, медлительные катки и люди с лопатами, пилами и молотками, выверенным трудом отвоевав у леса ровненький участок земли. Закатав его, и технично облагородив, стал ждать с неба дорогих гостей.
***
Гордый, лежал у школы, как всегда задумчиво наблюдая через щёрбатый штакетник за шумными детьми. Многие давно подметили... пёс любил одиноко, без своих подчинённых, созерцать за игривым школьным народом, покоя морду на лохматых лапах, прижавшись к холодной земле. Иным казалось, многим думалось… возможно он среди детворы вырос, скучающими глазами рассматривая шаловливую малышню, никогда не решаясь приблизиться.
Вдруг застрекотало небо, мягким милым звуком оповещая округу, что в эти края навсегда поселяется «малая» авиация. Пёс вскочил… вскинул морду, задвигал ушами, устремляясь расширенными глазами ввысь.
На снижение шёл Ан-2, слегка качаясь на холодном воздухе, сверкая бортовым новеньким номером и большой красной звездой на хвосте. Метис словно вернулся в счастливое прошлое… — вскочил, и помчался на глазах школьников, дворника и учителей, куда-то туда, куда плавно снижаясь, парил кукурузник — первый воздушный извозчик страны.
Встречный народ бросал дела, останавливался, прекращал разговоры, уступая мчащемуся мощному шерстяному тарану. Гордый, гордым ветром изо всех сил спешил, летел туда, где уже плюхнулась на брюшко, на шасси, маленькая жужжащая летательная машинка, прямо в объятие народа, праздника, и шумного оркестра, рождающего звуки восхваления: «Наконец-то сбылось!»
Зверь, со всей прыти устремился к самолёту, к пилоту, к другу… Но чем меньше оставалась метров, расстояния… он уже понимал… это не его любимая железная птица, с серебристым брюшком, с изогнутыми под углом крылышками. Эта какая-то зелёная… растопыренная, с расчалочными крыльями, скорей похожа на большого задумчивого майского жука.
И машины хозяин, — лётчик, не так смеётся… в унтах, тюфяком взлетая в воздух, возвращаясь на руки радостного народа. Но Гордый под впечатлением ожившего неба, точно пьяный от радости, минуя все кордоны, влетел в толпу, на поле всеобщей радости и чужого праздника, готовый к ласкам и доброму свету из счастливых глаз. Как вдруг! «А это что ещё за зверь!? — громко рыкнул злой какой-то человек-распорядитель, — а ну его немедленно с поля!»
Волку уже никогда не забыть, как его в «той» жизни любили красивые люди, прилетающие с неба, чтобы чуточку пожить на земле, и снова исчезнуть в облаках. Ему, выросшему в любви и заботе в военном городке, талисманом провожающему каждый истребитель в воздух, всегда казалось, что среди людей неба, он всегда будет желанным.
Теперь… получив камнем в бок, он понял, что это люди не с его неба прилетели. Он, которому посчастливилось щенком посмотреть вместе с солнцем на родную землю, с самого-самого высока, сейчас сделали больно, — а за что?
Он хорошо ещё помнит, как тогда, в кабине своего самого дорогого друга, страшно испугался, что навсегда потерял своё земное место обитания. Там ведь осталась широкая миска, с его любим пахучим лакомством, там остался детский садик, где детки его любили тискать, где взрослым уже, он с удовольствием будет на саночках легко возить их по снегу, а летом, в железной ванне на колёсиках от детской немецкой коляски. Испуг впрыгнул в собачонку, как только стремительной стрелой истребитель прошил ватное молоко кудрявых облаков, где оказываются и живут эти необычные летающие люди.
Ему никогда не забыть, как каждый лётчик уходя ввысь, прощаясь с землей, как ритуал, наудачу, подходил к нему, и трепал тому терпеливую лохматую голову, наговаривая всяких добрых слов, всегда зная, что верный пёс его обязательно дождётся.
А теперь... в горькой печали уходя от весёлых, и таких чужих людей, гордый зверь уже знал, что на это поле он никогда не вернётся. Там было всё чужое… и смех, и крики, и железная птица, и размеры поля, с дырявым огромным полосатым «чулком» показывающий направление ветра.
***
Вечерело. Словно в забытье, возвращаясь к лесопилке, битое животное решило сократить расстояние, и пройти через район «ГРП», — участок с деревянными бараками, где расположилась геологоразведочная партия. Минуя спуск, зверь первым увидел испуганную женщину на жиденьком мостку, прижимая к груди авоську с продуктами, отбиваясь от двух наглых бродячих псов хворостиной, жалобно выкрикивая слова помощи. Волк сразу узнал этих агрессивных дворняг, он с ними уже не напрягаясь дрался. Не раздумывая, Волкособ ринулся в атаку.
Чужаки не стали испытывать удачу, завидев знакомые клыки. Так Гордый познакомился с доброй женщиной, заведующей почты. Анна Степановна, уже была наслышана об этом молчаливом псе, что любит у школы, у садиков детских непонятно шляться, крутиться.
— Спасибо тебе, друг, что провёл меня до дому, — сказала женщина, — бросая пряник собаке. Но голодный самолюбивый зверь даже ухом не повёл. Он как обычно смотрел в глаза человеку, пытаясь понять его истинную сущность. Он женщин в платках уже разных видел. Одни ругали, другие пытались тряпкой ударить, палку какую бросить, другие наоборот погладить, что-то вкусненькое дать.
— Хочешь у меня жить, а? У меня будка во дворе имеется. Я вижу, у тебя даже ошейник есть.
Женщина попыталась рукой дотянуться до шеи. Но чёрный зверь, сделал шаг назад. Никому еще в «этой» жизни не удавалось погладить этого, когда-то брошенного друзьями зверя.
— Ну-ну!.. Это я так!.. Как хочешь… — подумай! Зачем тебе вечно голодным бродить по посёлку. Дураков пьяных сколько… ещё пальнут!
Но божья тварь, нюхая холодный темнеющий воздух, понимала: надо спешить домой, к таким же брошенным, к своим. «Спасибо тебе сердечная женщина! Но мне надо идти» И он медленно побрёл на край села, туда, где за рабочую смену, угрюмые и прокуренные мужики, после распитой чекушки, наспорившись, насмеявшись, уже разбрелись по домам, оставив после себя тёплую подушку пахучих опилок.
***
Прошла неделя. Анна Ивановна закрывая почту, краем глаза узрела медленное движение, вывалившиеся из-за угла.
— О-о!.. Гордый! Гордый!.. Как я рада, что ты меня нашёл. Ты знаешь, сколько я о тебе думала, а?
Поперечиной закрылась металлическая лямка, щёлкнул замок, женщина устало опустилась с крыльца.
— Ты хочешь меня проводить, да?..
Волкособ не сводил глаз со своей знакомой, никак не выказывая, ни хвостом, ни ушами своего истинного настроения.
— Гордый! Ну почему ты такой высокомерный и не ласковый, а?.. Я ведь со всей душой к тебе.
Женщина тянет руку к голове, — погладить. Животное привычно делает шаг назад.
— Ну, ладно-ладно! Давай в магазин зайдём, я что-нибудь тебе съедобного возьму. — А что ты больше всего любишь?
Женщина, следуя рядом с собакой, многое называла, но, ни разу его любимого лакомства, от которого он всегда млел, от которого ему всегда было сытно и весело.
Так и стал Гордый провожатым у Анны Степановны, о чём в скорости молва по посёлку пошла-полетела, — наедаясь вдоволь у сердобольной одинокой хозяйки.
— Надо же, как часы уже ждёт! Минутка в минутку приходит, — выглянув на улицу — сказала работница почты, закрывая за собой двери. — У вас прям любовь, Анна Степановна!
— А как же! (улыбаясь одевается) — Вот всё не знаю, как его на цепь посадить, — даже за ошейник не могу взять. Пусть лучше двор охраняет… боюсь я этих пьяных колдырей… Вот к Гаврилину кто-то прошлым выходным залез…
— Потерпи Ань. Ты поласковей, душевней с ним! Смотришь, и размякнет, подпустит.
Чужая женщина как во сне всё видела. Размяк, поверил окончательно уставший зверь одинокой женщине, охранником провожая до самого дома, где и вправду тёплая будка под непромокаемым навесом стоит, и какая-то ещё железная цепь рядом бесхозно висит.
Всё больше и больше пропадая у неё, но всякий раз, на ночь, возвращаясь к своим, уже тогда заметив, что им без него опасно и тоскливо. Он всё ж вожак, признанный лидер. Его во всём селе уважают, с ним голодным никогда не будешь.
Страдал… мучился пёс, не зная как правильно поступить. Устал скитаться... уже брали своё года, ныли глубокие раны. А у Анны Ивановны так надёжно и уютно, прям тихая благодать. Она его даже за грибами уже брала, что он сердечно любил в «той» жизни, с малолетства следуя по пятам за своим другом-спасителем с ружьём, с большой плетёнкой в руке. Но бросить друзей... этого крохотного доходягу Чирка, с такими преданными глазами... Нет! Нет!
***
Зверь, в очередной раз сытно наевшись, облизываясь, вдруг почувствовал, как будто добрые, возможно тёплые ладони, шарящие по голове, по шеи, по ошейнику. «Ну ладно… пусть!.. Ей уже можно… она проверенный друг, его преданной жизни — спаситель!» Как вдруг что-то щёлкнуло на шеи, от чего стало вдруг хуже дышать, стало тяжелей голова, и тело в непонятный плен попало.
Рядом стояла удовлетворённая женщина, и вытирала руки об пузатый свой живот, в довольной улыбке широко щеря некрасивый губы, окончательно выводя:
— Ну, от… так лучше будет! Охраняй… только как увидишь ворюг, сразу лай. Да я думаю… от одного твоего вида, они не полезут во двор.
И тётка довольными кривыми ногами повела себя в тёплую избу, радуясь своей хитрой победе, не зная, что собака-волк никогда в жизни не сидел на цепи, которому это вообще по духу жизни противопоказано.
Гордый, ещё не осознавая весь ужас происходящего, резко дёрнулся. Его почему-то откинуло назад. Он ещё рванул… что есть мочи в одну, в другую сторону, вверх, в прыжке стараясь обрести так любимую свободу. Но было поздно!
«А-а-а!» — закричала свободолюбивая душа! «Нет! Нет! Нет!» — ещё пуще, сильней задергался, пытаясь порвать цепь, жутко страшась мысли, что этот ужас уже навсегда навсегда-навсегда! Скулил, рвал, драл, карябал землю, уже понимая, что нет ничего страшней на земле чем цепь на шее.
Довольная хозяйка, ссыпая зёрна, подзывала курей:
— Цып! Цып! Цып! А ну идите... летите сюда… что стали… не бойтеся его! Поскулит, попрыгает, да успокоится. Собака должен охранять двор, а не по улицам носиться, грязь всякую собирая. — Правильно говорю Гордый?
Волк уже не смотрел на женщину предательницу, он продолжал рвать цепь, делая больно шеи, голове. «Обманули! Обманули! В какой раз предали!» Гордый, измаявшись, устало сник, обмяк, закрыл глаза. Ему не хотелось больше жить.
— Вот и молодец, мой хороший! А вечером я тебе кашки сварю… хорошо! У меня с голоду не пропадёшь… Цыпа! Цыпа! Цыпа!
***
Ночью, в самый её разгар, женщина вдруг вскочила, кинулась к окну, сразу заметив, как в соседнем доме вспыхнул в окнах свет. Потом в следующем, — другом.
Кругом безудержно озверело, трусливым лаем изводились местные собаки. Их истеричные арии заглушал жуткий волчий вой.
Сонная растрёпанная женщина, накинув одёжку, стремглав кинулась во двор. В тело ударил живой морозец, а в глаза, яркий рогатый месяц, кривыми светящимися уголками рождая улыбку, вроде как насмехаясь над обманчивой бабёнкой. «Ну, что… получила своё!?»
В пространстве освещённой ошалевшей ночи, хорошо виднелся Гордый. Высоко вскинув сильную морду, он жутко выл, совсем не обращая на свою дрянную хозяйку, на шавок, их трусливый плач в бедных дворах.
Кругом уже слышны были недовольные возгласы сонных соседей, их предупреждающие крики: «Мол, что ты за зверя приручила!? А ну его вон… на свободу!
Пусть воет в лесу… на лесопилке! А то застрелю… а то… а то… а то…» Женщина поняла, что жестоко просчиталась, уже пожалев о содеянном.
Анна Степановна потянулась к шее, но зверь угрожающе оскалился, — дико зарычал, и из всех сил дернулся в её направлении; женщина с криком, оступившись, завалилась на подмороженное крыльцо, больно ударившись жирным боком об угол.
Закричала, от боли застонала. Гордый что есть мочи, ещё раз рванулся, наконец-то разогнув кольцо на стене бани, сразу ощутив свободу — правда с гремящей тяжёлой цепью на шее в подарок.
Не обращая внимания на битую женщину, зверь со всего злобного духа запрыгнул на забор, перевалился, бряцая ненавистным металлом, до ужаса напугав близко стоящих ротозеев, пришедший на разборке к соседке.
Люди стояли в стороне, кто курил, кто ёжился на ветру, вглядываясь в темноту, куда исчезла чёрная мощная животина, совсем не обращая на жалобные стенания несчастной женщины.
Одна соседка, закрывая калитку за собой, тихо пробурчала: «Так тебе и надо!» Другой сосед, в белых кальсонах, в галошах, в фуфайке, бросая окурок в канаву:
«Эх, Степановна! Волка хотела на цепь. Совсем мозгов нет!»
***
Трое суток лежал обманутый зверь с цепью на шее. Рядом сострадая, поскуливая, шлялись его друзья, не зная как помочь главарю, их вожаку, их голодному другу.
Пилорамщик Матвей Григорич, первым заметил «неудобство» на шее дикого пса. Умного зверя надо было спасать. Но как?.. Грызанёт… мало не покажется!
Ещё трезвыми, мужики решили сделать цепкую рогатину, через щель между досок просунуть, и точно прижать его сильную голову, шею к опилкам. Первая попытка сразу показала невозможность задуманного. Собака-волк был жутко сильным и вёртким, хоть и изрядно исхудалым.
Самый молодой и умный работник, притащил толстый брезент. Уже пьяными, и окончательно смелыми ловко накинули, навалились, придушили, чуть не поломав ему кости, отщёлкнув гремящую тяжесть, мимолётно узрев какую-то надпись на ошейнике. Но, прочитать не получилось. Волкособ вырвался, и помчался в лес. За ним семенили его верные собаки, радуясь за вожака, удаляясь от мужиков, их восторженно-громкого обсуждения: «Как мы его, а-а?.. Но, как силён волчара!»
***
Пришла весна. Вокруг всё преображалось, природа требовала красок, больше воздуха и новизны. Ничего не менялось в жизни своры. Как вдруг, однажды ожил посёлок, понаехало незнакомых людей. И военных и простых. Ожила заброшенная однопутка, выныривающая из дикой тайги. Это военные железнодорожники её быстро реанимировали, выровняв блестящие полоски рельс, сделав леспромхозовский тупик рабочим.
Страна в корне меняла внешнеполитическую доктрину. Частично изрезав авиацию и лётные училища, главную роль в вопросах сдерживания противника отводилась всевозможным ракетам.
В тайне, в секрете, ночами стали прибывать составы. Ночью, при свете прожекторов происходила выгрузка, чтобы посторонние не видели, скрытые враги не знали, что даже своре не получалось пробраться к полевой кухне, к палатке, где всегда пахло, из леса тянуло самой вкусной на свете едой.
Перед этим все руководители крупного посёлка были вызваны на секретное совещание в Городской комитет КПСС, где все кому надо выступили, под расписку расписали, чтобы: «Молчок! И рот на замок!» Что в тайге будет строится, куда ночью машины новенькие всё тягают и тягают груз. Всем в посёлке доведено, кому надо сказано, предупреждено.
Как приказали, как попросили, так все и делают, молчат, думают. Только это не касается, бывшего разведчика, ветерана, орденоносца Ивана Игнатича.
Пенсионера, сторожа на складе готовой лесной продукции, которую, вдруг стали несметно поставлять в тайную тайгу.
***
Наступила грибная пора, надо в лес обязательно идти. Да в плодовитой стороне аншлаги да предупреждающие надписи пестрят: «Стой! Проход сюда строго запрещён!» Все боятся, все трусят, потому что знают, с этими товарищами шутки плохи. Только это не касается указанного сторожа.
Как-то, фронтовик хлебнув «горькой», схватил корзину, нож, и двинулся в знакомую тайгу, кою ещё не так знают «пришлые». Потом уже… в продуктовом магазине, всем брехливо будет рассказывать поддатый Игнатич, как любопытством обуянный, не утеряв навыки разведчика, хотел посмотреть, что ж там такое интересное возводится. Всё равно, со временем все «ВСЁ» узнают.
Нёс, любопытному народу доносил: «Я только к грибу нос наклоняю… как вдруг, как из преисподней, из земли выросли два военных человечка, с автоматами наперевес.
Наставив в моё пузо стволы, тихонечко спросили, глядя мне прямо в центр глаз, и на дно, как назло пустой ещё корзинки: «А собственно дяденька-старичок, что мы здесь делаем, а?..
Ну тип того: Знаки, надписи, предупреждения для кого навешаны, а?»
Ну, перепуганный разведчик, ветеран, — заблеял, залепетал, о хорошем грибном урожае, о язве желудка, требующая питательных бульончиков. Вроде как выслушали, поверили, записали, приказали строго-настрого молчать, домой с улыбочкой отправили. Только ровно через три дня после того болтливого магазина, не вышел из дома дядя Иван.
«Стук! Стук! Цап-царап!» — и нет человека, ветерана, разведчика, разведавшего лес на свою любопытную голову. Ночью, тихонько, прямо с охраняемого склада забрали, вместе с отмеренной продукцией, чтобы никто не видел, прямо на глазах у волка-пса.
Любил забегать к этому простому мужику, охотливому рассказчику-болтуну поседевший уже собака-волк, лежа поодаль, слушая его байки, нюхая вонючий дым его папирос. Знал: сам сварит вкусный суп, сам насытится, ему миску нальёт, вынесет. Бобылём жил незлобный человек, всегда радуясь приходу огромного зверя на его пахучий смолистый склад. Чтобы просто по душам поговорить. Ведь не с кем. Один тянет лямку жизни, как чучело в огороде, научившись сам с собой долго говорить, порой даже спорить. А теперь и его не стало.
***
Страшный пример сделал своё отлаженное дело. Все в селе сразу трусовато притихли, исключив всякие разговоры о военных, что окончательно спрятались в закольцованной тайге. Утихла станция, не приходят больше вагоны, только раз в неделю паровоз притягивает в тупик несколько теплушек, с разным несекретным имуществом и продуктами. Встречает груз на машине, маленький кругленький военный, всегда улыбающийся, с орденской планкой на груди.
Участник войны, пожилой уже старшина сверхсрочной службы, чуть сутулясь, всегда тяжело вползал, вскарабкивался в столыпинский вагон, бухтя, ругаясь, что пора бы давно лестницу подчинённым сотворить.
И сотворили бы, если бы однажды перед смешливым старшиной не появился внезапно Гордый, подставив спину, будто это запросто делал всю жизнь. В напряжении тогда замер народ, глядя на эту необычную картину. Военный как будто не боясь поломать позвонки странному зверю, жёстко, без тени жалости упёрся в хребтину сапогом. Но крепкий зверь даже не прогнулся, не искривился мордой. Он стоял каменной глыбой, с достоинством ожидая окончания необычного действа, отчего заимел кучу восторженных оваций и рукоплесканий постороннего люда.
***
Так, Гордый стал своим у горстки чужих неспешных военных, не таких строгих и серьёзных как раньше, которые здесь чувствовали себя надменными бессердечными хозяевами, кои слава Богу растворились уже в густом лесу.
Волку-метису, нравилось встречать этот состав вместе со своей гулкой командой. Они его поджидали на берегу реки, молча прячась в траве, ожидая знакомого гудка.
Как только паровоз выползал на прямую, завидев дружную свору, в округу летело, отрывисто звучало: «Фа-у! Фа-у! Фа-у!» С грохотом проносился маленький состав по мосту, зная наперёд, что гордый пёс, уже ждёт его, готовый броситься наперегонки с новыми друзьями, с чумазым дымным паровозом.
Провисая на поперечной перекладине в проёме «скотского» вагона, солдаты наперебой улюлюкали, махали пилотками, громкими криками подбадривая несущуюся свору, где впереди всегда «голопил» огромный волк-собака, а за ним его верное зверьё, проверенное в драках, в голоде, в холоде, в нужде.
Но громче и радостней подбадривали самого последнего, вечно отстающего — маленького, убогого, плешивого дворняжку, по кличке Чирок. Который, больно прихрамывая за заднюю ногу, простреленную когда-то сыном поварихи, изо всех сил пытался за всеми успеть, не потеряться, длинно вывалив алую ленту языка.
Ему всегда трудно даются эти, хоть и маленькие километры. Кажется: вот-вот упадёт, свалится, подохнет! Но не сдаётся маленькая подраненная плоть, потому что знает: «Он полноправный член банды, кодлы, семьи! И им обязательно эти добрые люди дадут солдатской говяжьей тушёнки, самой вкусной еды на свете!
Это её чёрный волк всегда глазами, поведением восхваляет, получая из солдатских рук, по команде доброго старшины, с густыми сивыми усами под мясистым носом, с засаленной макушкой на фуражке.
Все люди вокруг знают, как на представление с детками своими идут, посмотреть как собака-волк не ломается, не гнётся под человеком, смело и радостно подставляя офицерскому сапогу свою широкую спину. Пёс всегда с нетерпением ждёт этого чёрного паровоза, и своего друга старшину.
Никто не догадывается, не знает, что он таким рос, с большими детьми так дурачась, крепким вырастая, под аплодисменты летчиков и их жен с детишками в выходные от полётов дни. Сдружилась свора с добрыми военными, хоть они и не дети неба, хоть на них и другая форма, хоть и пахнут они другими запахами.
Гордый только одного хочет, чтобы «эти» не предали, не бросили его большую разномастную семью.
Привык к всеобщему вниманию, к аплодисментам, детишек — громким возгласам, смешкам! Без мамок, сами пытаются уже взобраться, на нём далеко проехать. Гордый, словно вновь вернулся в свои молодые годы, стал терпеливо позволять с ним дурачиться. Он вырос таким, ему это надо, он от этого молодеет.
***
Только однажды, вдруг всё поменялось. Вместо маленького и доброго старшины, появился встречающим, — новый, в стрелку отглаженный и холеный капитан.
Он только приехал на новое место службы, прямо из Москвы, которому для начала поручили это не хитрое дело.
Шушукается народ, вроде за какую-то провинность сюда с высоких штабов «выперли». Вроде из-за женщины, из-за чьей-то измены. Ходит пряменький, очень стройный офицер, крепкой хворостиной по хромовой коже отполированного сапога постукивает, за спину левую ручонку заложив. Ждёт, не зная всего отлаженного порядка действий.
Сторонится подчинённых, верхом воздух высокомерия тянет, боясь обувку в грязь испачкать, стрелку помять, сознательно посторонних не заметить. Пришлый народ в сторонке стоит, деток успокаивая, на рампу поглядывая, слыша уже как «фыкает-гудит» паровоз.
А вот и он! А вот и наша дружная запыхавшаяся свора, что с лаем, с шумом несётся в стороне, готовая впрыгнуть к бойцам в их вкусный вагон. Люди радуются, вроде как «труппа» приехала, прибежала. Сейчас детишкам радость будет, да и хлебом вкусным, привозным заодно разжиться.
Насторожился в стороне запыхавшиеся Гордый, глазами выискивая в толпе маленького форменного человека, затянутого портупеей. Почему же не пришёл его друг, всеми уважаемый старшина. Но концерт-представление никто не отменял! Зверь не испугался нового высокого человека, и из-за спины сделал к нему резкий шаг, — подставив широкую спину, чем жутко испугал того. Тот, в страхе, не стал отпрыгивать, а машинально, скривив пренебрежительную маску лица, чтобы не подумали что трус, — трусливо ударил отполированной ногой в живот гордому собаке-волку.
Народ ахнул! Заплакала маленькая девочка... какая-то женщина громко крикнула: «Что ж ты делаешь… а ещё офицер!» Забухтели недовольно подчинённые бойцы, лениво выполняя команды своего нового начальника.
На глазах взрослых, их малых деток, на глазах его преданной своры, этот человек больно ударил в кости, в мясо, сделав очень больно душе. Люди еле слышно роптали. Солдаты работали лениво, с ненавистью поглядывая на хлыща, с тростью в «правой».
А Гордый, словно окончательно лишившись чего-то самого дорого в жизни, медленно побрёл в бок, туда, где бетонная мачта со светильником-фонарём стоит, ночью светит, где заросший закуток, откуда ненадёжного человечества не видно. Расстроенные люди смотрели ему в след, свора испуганно держалась в стороне, уже понимая, что случилось непоправимое.
***
Прошло три дня.
— Что… так и лежит? — спросила женщина, — глядя на зверя, лежащего в мёртвой траве, не моргая, поглядывающего на ноги женщин, на полную миску нетронутой застывшей еды, и чеплашку со стеклянной уже водой.
— Я ему уже и его любимую тушёнку приносила. Всё равно… молчит… не встаёт. На моих детей раньше так радостно реагировал… а сейчас придут, гладят, просят подняться, поесть… а всё равно (женщина вздыхает, отворачивается) — Какой изверг… а ещё пагоны носит чёрствая душа.
Прошло ещё три дня. Белыми пушистыми бабочками закружил первый снег, ватным одеялом заваливая всё вокруг. Запыхавшаяся машина резко встала как вкопанная перед пригорком, где лежали редкие уже собаки, тускло анализируя свою теперешнюю безрадостную жизнь. Уже не живым лежал в траве, исхудавший плешивый Чирок, оскалив свою щербато мёртвую пасть, с простреленной, уродливо кривой иссохшей правой ногой.
Старшина бросился к столбу, к тощему, неузнаваемому зверю. Кидая шапку на землю, падая ниц, подхватил застылую голову заваленного снегом друга:
— Гордый! Гордый! Ты слышишь меня?.. Вставай!.. Я вернулся! Проснись… ну, открой глаза.
За спиной хрумкает снег, приближаются шаги, и голос женский, остылый, без кровинки в звуке:
— Он-н... ещё вчера околел. Не смог перенести такого позора… — Вот! — сказала женщина, — протягивая потухшему военному, крепкий ошейник.
Старшина, отвернувшись, смахивая внезапно выкатившуюся слезу, поднёс его к лицу. Закрыл глаза, понюхал, хрипловато, прокурено вздохнул:
— Эх!.. Бродяжья жизнь!.. Думал через месяц… по увольнению себе его забрать. А вот…
Окончательно опускаясь в рыхлый белый-белый снег, черпая его широкой пятернёй, умываясь им, обречённо дополнил:
— Как теперь жить, а?.. Всех потерял...
Женщина молчит, немо сморит на осунувшегося, ещё больше исхудавшего почерневшего военного. Его вроде дней десять не было… а человека не узнать. В ответ только жмёт плечами, промокая уже свои глаза.
— Л-летал… жену хоронил.
— О-о, боже! — вскрикнула женщина, прихватив ладонью испуганно-растерявшиеся губы. — Простите… ей-Богу не знала! Искренне соболезную!
Мужчина трясущимися посиневшими руками жадно закурил. Проморгавшись, от нечаянного дыма, от предательских слёз, смешавшихся с талой водой, из внутреннего кармана кителя извлёк очки. Тяжко вздохнул, рассыпав пепел на коленку, на ней же вытянул ошейник, задвигал глазами, считывая уже еле заметную надпись: «Мой друг, по кличке Миг».
На этих несчастных людей, и мёртвое околевшее тело Мига, грустно смотрело совсем не яркое солнце. По веткам игриво прыгали яблочные грудки беспечных снегирей, совсем не замечая чужое горе, и комом свалившиеся одиночество. В тумане морозного синеющего воздуха, еле-еле было слышно, как где-то далеко, у железнодорожного моста, гремел натруженным железом приближающийся паровоз, непривычно долго пуская в замерзающий воздух отрывистые гудки.
Гудки приветствия, гудки зова, гудки предчувствующей скорби.

Автор: Володя Пушкинский