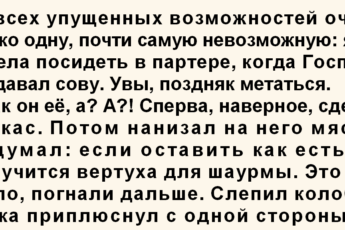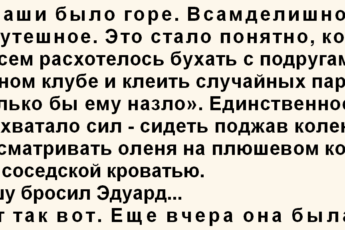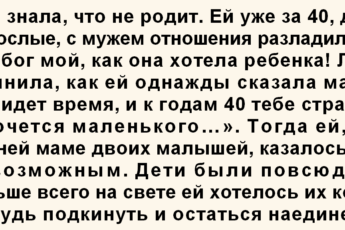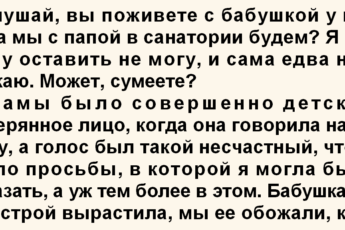Деда Максима во дворе недолюбливали, а озорная детвора и вовсе побаивалась. Нет, дед Максим ни на кого не кричал и не ругался. Он с безразличной физиономией отчитывал какого-нибудь шалопая, обрывавшего пять минут назад зеленые абрикосы и ломавшего ветки забавы ради. Со всё той же безразличной физиономией он выслушивал заискивающую тираду соседки, пришедшей к нему вечером и попросившей поднять три мешка картошки из подвала. Дед Максим выслушивал, по-военному рублено отвечал «нет» и закрывал перед опешившей соседкой дверь. Остальные хоть какие-то оправдания придумывали: зашкаливающее давление, лунное затмение, Луна в знаке Рака или вывихнутое плечо. Дед Максим не утруждал себя оправданиями, просто говорил «нет» и закрывал дверь.
Его колючие, черные глаза до чертиков всех пугали, а лицо, не знавшее улыбки, напоминало застывшую восковую маску. Бабушки-соседки, занимавшие лавочку возле подъезда с семи утра, молча провожали худого и хромающего деда Максима, спешащего куда-то по своим делам ранним утром, и так же молча встречали вечером, когда он возвращался домой с неизменным черным, пусть и несколько потертым, дипломатом в левой руке.
Иногда бабушки-соседки, переборов неприязнь, окликали его и, растягивая слова и обильно потея, пытались что-то донести до деда Максима, но тот, безразлично смотря на них черными глазами, резко мотал головой в стороны и скрывался в подъезде. Бабушки еще долго перемывали ему кости, замолкая лишь в те минуты, когда дед Максим выходил на балкон, где читал газету и пил крепкий чай с сахаром и сушками. Стоило ему вернуться в квартиру, как шепотки возобновлялись, а старушечьи голоса порой срывались на фальцет от негодования.
— Максим Викторович, мне б тут банки в подвал снести… — робко заводила баба Олеся из «сорок второй» квартиры.
— Нет, — коротко отвечал дед Максим и закрывал перед её носом дверь.
— Ох, каменное сердце, — мотала головой соседка деда Максима, Тамара Львовна из «тридцать пятой», выглядывая из-за своей двери. Баба Олеся вздыхала, хлопала себя по обширной груди и качала головой.
— Каменный, каменный. И жену свою извел, — и заходила в гости к Тамаре Львовне, где еще пару часов, за чаем и конфетами, перемывала кости деду Максиму, пока за ней не приходил проголодавшийся внук Венечка – сметанный, тучный подросток тринадцати лет.
Проходили года, вчерашняя детвора превращалась во взрослых, и все чаще звучали по вечерам пьяные смешки вперемешку с песнями под гитару. Не менялся только дед Максим, чья голова лишь сильнее побелела, а восковое лицо так и осталось восковым. На смену вчерашней детворе пришла детвора новая – такая же крикливая и озорная.
— Шухер, Толик! Дед идет! – кричал Игорёк, спрыгивая с абрикосины прямиком в кусты сирени, ломая их и разбрасывая ботинками влажную землю на асфальт.
— Подождите, пацаны! – кричал покинутый друзьями Толик, побледневший и испуганный. Деда Максима он, как и все, до одури боялся. Толик знал, что дед Максим уже спускается и скоро выйдет из подъезда, времени на бегство почти не оставалось. Он зажмурил глаза и сиганул метров с трех во все те же многострадальные кусты сирени. Ногу вдруг пронзила боль, а в глазах потемнело. Друзья, опасливо прячущиеся возле дерева с тутовником, боялись подойти, а когда из подъезда вышел их главный враг, и вовсе прыснули во все стороны, только пятки засверкали.
— Сирень-то тебе что сделала? – раздался знакомый скрипучий, строгий голос. Толик, зажмуривший глаза, осторожно их приоткрыл и увидел начищенные туфли деда Максима, на которых, даже в слякоть и дождь, ни единого грязного пятна не было. Дед Максим наклонился и потрогал ногу Толика, заставив белобрысого сорвиголову тихонько заскулить. – Чего воешь, как пес побитый? Сам виноват!
— Знаююю, — с обидой в голосе протянул Толик. – Не бейте меня, дедушка Максим.
— Кому ты нужен-то, — сварливо ответил старик и добавил. – Лежи тут. Я сейчас.
— Каменное сердце, — качали головами бабушки-соседки, попивая теплую воду из захваченных из дома бутылочек, и провожая деда Максима осуждающим взглядом. К Толику они подойти не удосужились, переключив свое внимание на обсуждение того, кого недолюбливали. Толик, замерев и боясь пошевелиться, пролежал еще десять минут, а потом вздрогнул, снова услышав голос деда Максима. Повернувшись, он увидел, как главный враг всех детей осторожно щупает его ногу, а рядом лежит бежевая пластмассовая коробочка с белым крестом на ней. Пахнуло спиртом, а потом у Толика на глаза набежали две страдальческие слезы и у пятки защипало.
— Терпи. Царапина и всего-то. Терпи, боец, — коротко приказал хмурый голос деда Максима. Он грубо поднял мальчонку с земли и отряхнул от листьев и прилипшей к коленям грязи, после чего сурово посмотрел на него и прочитал привычную «проповедь», как называли про себя его ворчание другие ребята. И только после этого он отпустил Толика на все четыре стороны, поднял аптечку и, прихрамывая, двинулся к подъезду, зло посмотрев на притихших бабушек-соседок.
— Каменный, каменный, — запричитала баба Олеся, когда дед Максим скрылся в подъезде. – Видели, мальчишку-то ударил?
— Видели, видели. Каменное у его сердце, — закивали остальные. – Сам, небось, дитём не был? Да по деревьям не лазил? И сирень свою понасажал, дышать трудно.
А Толик, вернувшись к друзьям, делился впечатлениями. Те, скептично смотря на друга, не верили ни единому слову, решив напоследок, что Толик просто боится признаться, что дед Максим его побил и отругал.
Проходили года, вчерашняя детвора превращалась во взрослых, и все чаще звучали по вечерам пьяные смешки вперемешку с песнями под гитару. Не менялся только дед Максим, чья голова лишь сильнее побелела, а восковое лицо украсилось пигментными пятнышками.
Подъезжал к подъезду на новенькой «девятке» повзрослевший Толик, обнимался с матерью и спешил домой. А на лавочке у подъезда сидел дед Максим и держал, обнимал левой рукой потрепанный дипломат, а правой придерживал пакет с продуктами.
— Помочь, Максим Викторович? – улыбнулся Толик, поравнявшись с лавочкой. Дед Максим поджал губы, чуть подумал и еле заметно кивнул. Толик, схватив пакет, с непривычки охнул и покачал головой. – Что ж вы тяжести-то таскаете, Максим Викторович?
— Судьба у меня такая, тяжести таскать, — сварливо ответил тот и направился за Толиком в подъезд, добавив напоследок. – У квартиры оставь, пожалуйста. Дальше я сам.
— Хорошо, — откликнулся тот, резво поднимаясь по ступеням с тяжелым пакетом в руке.
А одной морозной зимой дед Максим снова стал объектом обсуждения сморщенных бабушек-соседок. Все случилось вечером, когда баба Олеся, еле переставляя ноги, поднималась домой и наткнулась у почтовых ящиков на спящего человека.
Человек был грязным, заросшим и источал ароматы немытого тела. Но он спал, подложив под голову грязную шапку и прижимаясь задом к горячим батареям, надеясь хоть немного впитать живительное тепло.
— Вай, чиво разлегся тут? – перешла на ультразвук баба Олеся, тыкая спящего бадиком. Тот вздрогнул, проснувшись, и испуганно вжал голову в плечи, увидев орущую старушку. – А ну иди отседова! Обоссышь весь подъезд, а мне мыть потом!
— Я только погреюсь немного… — робко пытался защититься бродяга.
— Иш чего удумал! Погреться, — кричала та и на её крик начали выходить соседи.
— Опять бродяги! – запричитала Тамара Львовна, кутаясь в шерстяной халат. – Обоссут все, стены попачкают, а мы убираемся…
— Вот и я говорю. Дверь с кодом надо ставить, — баба Олеся резко замолчала, когда открылась дверь «тридцать седьмой» квартиры и на площадку вышел дед Максим. Хлопнула дверь и исчезла Тамара Львовна, мигом забыв и о бродяге, и о бабе Олесе. А сама баба Олеся, захлопав глазами, подхватила свой бадик и довольно резво для её лет взлетела по лестнице, лишь чудом не задев деда Максима.
Тот хмуро посмотрел на испуганного бродягу, спустился на пару ступеней и покачал головой. Бродяга резко помотал головой и тихо повторил то же самое, что сказал бабе Олесе:
— Я только погреюсь немного… Холодно очень.
— Пьяный? – резко спросил дед Максим, нюхая воздух.
— Нет. Замерз, — ответил тот, прижимаясь спиной к батарее. Дед Максим вздохнул и, поднявшись на площадку, скрылся в своей квартире. Он не знал, что в это время за ним наблюдает через глазок не только Тамара Львовна, но и остановившаяся этажом выше баба Олеся с Антониной Францевной, своей соседкой, выбежавшей на шум, но не успевшей спуститься.
— Каменный… — прошептала баба Олеся, но тут же поспешила спрятаться, когда открылась дверь квартиры и дед Максим снова вышел на площадку. Бабушки-соседки синхронно переглянулись, когда увидели, что старик, пусть и хромая, медленно несет железную тарелку с борщом, кусок хлеба и ложку. Поставив все это перед удивленным бродягой, дед Максим снова поднялся домой и вновь вернулся, неся в этот раз стопку одежды, которую тоже положил на пол перед замерзшим человеком.
— Кушай. А тут… одежда теплая. Не так холодно будет. Тарелку на подоконнике оставь. Потом заберу, — буркнул старик, поднимаясь по ступеням домой. Толик, вышедший из квартиры матери, проводил деда Максима задумчивым взглядом, потом посмотрел на бродягу, который снова вжал голову в плечи и крепче прижал к себе тарелку с горячим борщом.
— Кушай, кушай, — пробормотал он, подняв вверх руки. – Только не мусори тут.
— Нет. Я просто погреюсь…
— Хорошо, — кивнул Толик.
— Каменное у него сердце. Как зыркнул, аж сердце у пятки ушло, — запричитала сверху баба Олеся. Толик ехидно кашлянул, напоминая, что слышит, а потом повысил голос.
— Иди домой, баб Олесь.
— Каменный же он. Бомжов кормит… — не унималась старушка, из-за чего Толик рассмеялся и добавил.
— Это у вас сердца каменные, а у деда… у деда живое и справедливое...

Автор: Гектор Шульц