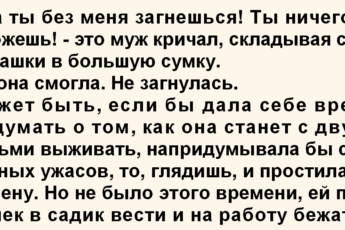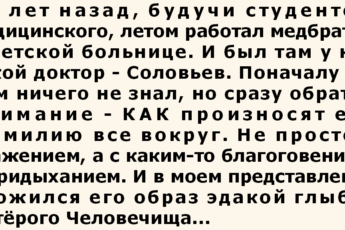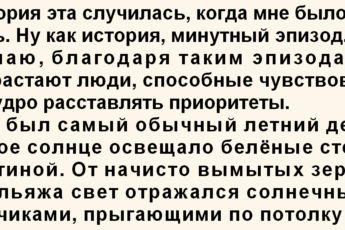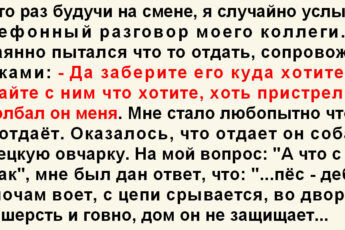Мы с ним познакомились возле помойки, когда утром, перед работой, я выносил мусорное ведро. У нас общественная помойка в самой глубине двора. А за нею, в заброшенной канаве узкоколейки, по которой ранее вывозили продукцию цементного завода, крепенько обосновались кирпичные гаражи. Завод давно уже остановили, вынесли куда-то за черту города. Вот и приглянулось это место гаражному кооперативу, который всё сделал согласно букве закона и – процветал.
Вскоре там же, прямо на крышах этих гаражей, обосновались бомжи, которые по закону ничего не делали, а просто стали там жить, да и – всё. Место для них оказалось удобное: за помойкой, деревьями и пригорком их просто не было видно. А если не было видно, значит – их вообще нет. Жили они тихо, вежливо так жили. Постепенно обросли хозяйством. Жителям местным особо не докучали, потому что собирались только под вечер, а с утра расползались «по точкам», добывая всё, что бомжам добывать положено.
Спустя какое-то время один из них, высокий согбенный старик с серой растительностью на голове и лице, которую ну никак нельзя было назвать благородной сединой, хотя это и была седина, в чёрном габардиновом пальто и шляпе с обвисшими полями, стал со мною здороваться всякий раз при встрече.
Этот бывший человек чопорно приподнимал свою бывшую шляпу, и ломти густых спутанных волос щедро падали ему на лицо. Он чуть раскланивался, я отвечал нейтральным «здравствуйте», и мы расходились. Расходились, и, как мне казалось, он тут же забывал о моём существовании. А что касается поклонов, так ведь это просто вежливость самовыживания, когда «несчастные и всеми отринутые парии общества» просто пытаются быть не обиженными.
У меня же эти встречи и приветствия вызывали улыбку. Согласитесь, не каждый из вас может похвастаться тем, что у него в знакомых есть бомж.
Спустя какое-то время, он обратился ко мне неожиданно приятным баритоном:
— Сударь, позвольте мне задать вам вопрос?..
Я невольно полез в карман за бумажником, ибо, кажется, догадался, что должен оплатить нашу с ним «дружбу» небольшим финансовым вливанием. Он понял мой жест и упредил его движением выставленной вперёд ладони с отрицательным взмахом. Я застыл, и он продолжил:
— Судя по вам, у вас в доме есть ещё книги.
— Да, разумеется.
— Не могли бы вы ссудить меня двумя классическими произведениями, которые через два-три дня я вам, разумеется, возвращу?
И после паузы добавил:
— … если, конечно, не побрезгуете…
Это было так неожиданно и так прекрасно старомодно, что отказать я был не в силах:
— Какие именно книги вас интересуют, уважаемый...?
Он среагировал немедленно:
— Иван Иннокентьевич. Просто Иван Иннокентьевич. А вас, позвольте осведомиться, как величать?
— Меня – ещё проще: Иван Павлович. Просто Иван Павлович. Так какие же книги вас интересуют, уважаемый Иван Иннокентьевич?
Он оценил мои любезность и шутку и продолжил:
— Мне просто необходимо перечесть «Дьяволиаду» Булгакова и «Замок» Кафки. Причём, читать нужно непременно параллельно, а не одно за другим. Ну, так как? Вы имеете в своей личной библиотеке столь необходимые мне книги и сможете дать их мне для прочтения?
Надо сказать, что после такого выбора отказать я был просто не в силах. Мы уговорились, что завтра, в это же самое время, встретимся с ним на этом же самом месте для передачи искомых Иваном Иннокентьевичем текстов.
Надо признаться честно, что за судьбу книг я, разумеется, опасался, но любопытство и возможность укрепить наше «шапошное» знакомство взяли верх.
Назавтра передача книг состоялась. Всё было так же «немножко слишком» в речах, которыми мы обменялись, и в рукопожатии, которым скрепили перед расставанием вдруг возникший союз. Иван Иннокентьевич клятвенно заверил меня, что через три дня вернёт мне книги в целости и сохранности. Я согласился, только предложил сделать это вечером, чтобы мне не пришлось тащить их с собою в университет. На том и расстались.
Через три дня вечером, когда лиц прохожих разглядеть было уже нельзя, но силуэты их читались отчётливо, я подходил к условленному месту, традиционно неся с собою пакет с мусором. Ещё издали заметил, что Иван Иннокентьевич уже поджидает меня и держит в руках Булгакова и Кафку.
— Я необыкновенно признателен вам, любезный Иван Павлович, — начал он традиционно чопорно, — вы чрезвычайно добры.
— Ну, что вы, Иван Иннокентьевич, пустое. Если вам, вдруг, понадобится что-то ещё, обращайтесь без всякого смущения. Только, прежде чем расстаться, не смогли бы вы объяснить мне столь неожиданное сочетание книг?
— Разве неожиданное? Мне кажется, что ответ – на поверхности. Всё то, что нас окружает сегодня, — мой собеседник пространно, почти театрально, повёл рукою вокруг, — это абсолютный симбиоз ситуации, в которой оказались булгаковский Коротков и герой Кафки…
Мне показалось удивительно точным наблюдение моего собеседника, а потому странная дружба наша просто обязана была продолжиться…
Я давал Ивану Иннокентьевичу ещё книги, а он платил мне тем, что рассказывал о своих «соплеменниках», тех, кто жил с ним бок о бок на крышах гаражного кооператива.
— Есть в нашем сообществе удивительная женщина, Иван Павлович, Зинаида Романовна. Она всё время отвратительно ругается матом и довольно часто колотит своего сожителя Серёгу, но при этом нежно заботится о двух кошках, прибившихся к нам. Кормит их, вычёсывает даже гребнем и чистит их шкурки детской присыпкой, которой разжилась в одном из своих рейдов по окрестным помойкам.
А вчера (я просто сидел рядом, потому и услышал), обихаживая своих питомиц, начала читать им… вы не поверите… Цветаеву! Мы, кошки и я, затаили дыхание, когда она произносила финальное: «… послушайте, ещё меня любите за то, что я умру…» Я боялся только одного: как бы не помешать ей в момент такого духовного напряжения…
В следующий раз рассказал мне о Серёге, горьком пьянице, очевидно, больном туберкулёзом, потому что утром он долго кашляет и, прокашлявшись, смывает водою из бутылки кровь с ладоней, которыми при кашле рот зажимает. А вчера этот Серёга принёс Зинаиде несколько увядшие цветы (видно, отходы после рабочего дня в одном из цветочных киосков). Когда вручал их своей даме, то сказал:
— Ты, Зин, лучшая из всех моих женщин. Ты на маму мою похожа, когда она ещё ходить могла…
— И я вышел из нашего шалаша, чтобы не мешать людям быть нежными друг к другу…
О себе Иван Иннокентьевич никогда не рассказывал, тщательно избегал он поводов говорить на эту тему.
О том, что у него есть сын, который трудится в каком-то банке каким-то высокооплачиваемым клерком, и о том, что у сына есть жена и двое детей, которые учатся в одной престижной школе с углублённым изучением китайского языка и китайской культуры, и о том, что живёт всё это «святое семейство» в шикарной трёхкомнатной квартире, некогда принадлежавшей Ивану Иннокентьевичу и его покойной супруге, откуда они просто вышвырнули старика-отца, когда родились двойняшки, я узнал от той самой Зины.
Зинаиды Романовны, которая любила кошек и Цветаеву, а ещё своего туберкулёзника Серёгу. Узнал после того, как умер Иван Иннокентьевич, лёжа в отведённом ему углу общественного шалаша.
— Умер ночью, тихо. Никто и не слышал, как. Всё потревожить нас боялся, — говорила Зина, к которой я обратился с вопросом, почему уже несколько дней приятеля своего я не вижу.
Ивана Иннокентьевича она, наверное, тоже любила …

Автор: Олег Букач