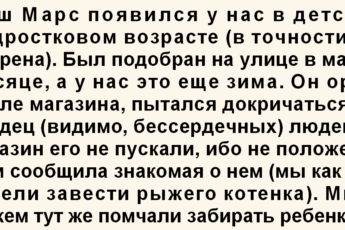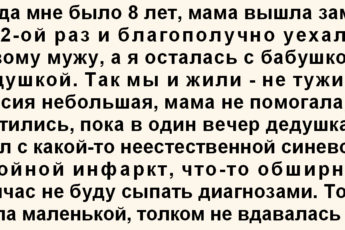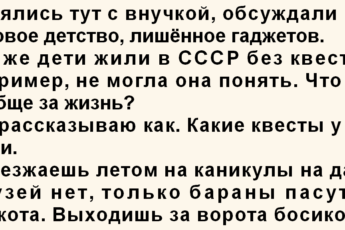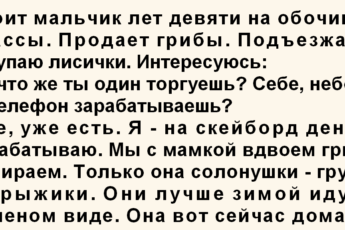На станцию!

— НА СТАНЦИЮ, ОДИН-ЧЕТЫРЕ!
— Приняли.
Машина дернулась с места рывком.
— Успеваем, не?
Я посмотрел на часы.
— Да хрен его знает.
Стрелки на циферблате ползли к верхней отметке, собираясь завершить день, сутки… и год.
— ДВЕНАДЦАТАЯ СВОБОДНА, НА ЦЕЛИННОЙ!
— ОДИН-ДВА, НА СТАНЦИЮ!
— ПРИНЯЛИ, ЕДЕМ!
Лужа встала пенными стенами по бортам санитарной «Газели», ломаясь напополам.
— Где сидим-то? – снова спросил водитель.
— Двенадцатая, где еще, — буркнул я.
Небо лопнуло яркой вспышкой, разорвалось гроздью высыпавшего салюта – яркого, пылающего, осыпающегося гаснущими искрами на каштаны и липы Цветочного бульвара.
— Семнадцать минут, — угрюмо произнес водитель Саша.
— Успеем, не истери.
— РОМАШКА, ТРИНАДЦАТАЯ СВОБОДНА НА САНАТОРНОЙ!
— НА СТАНЦИЮ, ОДИН-ТРИ!
Сияющий параллелепипед отеля «Звездного», окаймленный бело-зелеными неоновыми призраками убранных в иллюминацию пальм.
— Леш, а ты за меня сдал?
— Да сдал, блин, сдал…
— С зарплаты…
Не слушая, я повернулся назад. Врач Егор был на месте – улыбался, коротко кивнул. Да, мол, не паникуйте, успеете.
Шестнадцать минут.
— РОМАШКА, ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ, ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ С ВОЛЖСКОЙ В ДЕТСКУЮ БОЛЬНИЦУ!
— ПРИНЯЛИ, ДВА-ШЕСТЬ!
— Вляпались, — бормочет Саша.
— Может, успеют еще?
Улица Леонова.
Моргающие оранжевые точки светофоров на перекресте возле станции.
— РОМАШКА, БРИГАДА ДЕВЯТНАДЦАТЬ – СВОБОДНЫ НА ВИШНЕВОЙ!
— НА СТАНЦИЮ, ОДИН-ДЕВЯТЬ! И ПОБЫСТРЕЕ, ЕСЛИ МОЖНО!
— ПРИНЯЛИ!
Вкатываем между двух стражей-кипарисов во двор станции.
Саша выпрыгивает из машины:
— Лешка, ну давай, шустрее! Потом же до утра не запустят!
— Иди, я сейчас.
Водитель на миг морщится, потом кивает. Понятно. Слух по станции давно уже идет, что я не в своем уме.
Плевать.
Дождавшись, пока он уйдет, открываю дверь в салон. Смотрю на Егора. Ставлю на пол заранее купленную фляжку коньяка, откручиваю крышку. Мотаю ладонью над горлышком, давая коньячным парам перебить запахи санитарной «Газели».
— Ну… что.
Егор улыбается. Он всегда улыбается. И всегда молчит.
— С новым годом тебя, мой доктор.
Горло как-то неприятно стискивает. Я кашляю, прогоняя спазм. Смотрю на него – сидящего в кресле, кутающегося в старенькую, давно вышедшую из употребления, синюю куртку с нашитым крестом из светоотражающей ткани.
— Не знаю, чем я тебя заслужил… Не знаю, как сделать так, чтобы ты снова стал живым и настоящим, Егор.
На миг мой врач хмурится, словно прогоняя что-то из мыслей, потом – снова улыбается.
— Но… если я и хочу что-то сказать хорошее уходящему году, так это – огромное спасибо за то, что он дал мне тебя.
Протягиваю руку вперед. Егор, немного помешкав, протягивает свою.
Легкое, призрачное, невесомое рукопожатие двух медиков….
— Пей вот, если получится, — неловко шаркая, я отступаю. Рука ложится на ручку двери.
— Егор, а если честно – приходи к нам, в двенадцатую, а? Сможешь?
Мой врач грустно улыбается.
«Вряд ли» — читаю я по его губам.
— Ладно.
Я помялся. Стиснул пальцы на ручке двери.
— Знаешь, о чем я дедушку Мороза хочу попросить? Только о том, чтобы ты от меня не уходил, Егор. Никогда.
Захлопнув дверь, я зашагал в сторону навеса станции, к светящемуся крыльцу.
Над головой снова рвануло – несколько раз, резко и трещаще, рассыпая огненную крошку по черному зимнему небу. Где-то за зданием станции раздалось торжествующее «уу-п, уу-п», и двор на миг осветился почти дневным светом ракет, ярких, жгущих, дрожащих в морозном воздухе.
Ленька Попандопуло, черноволосый, горбоносый, подхватил меня за талию, поволок по коридору.
— Ну что, Астафьев, готов?
— Я пионером был, — с достоинством ответил я. От Леньки ощутимо пахло чем-то дорогим и спиртосодержащим. – Аж три года, пока лавочку не прикрыли. Поэтому – всегда готов.
Ленька на миг прильнул ко мне.
— Новый год, не верю, Леш… Дожили…
На миг остановившись, я стиснул его ответно. Ленькиному отцу в октябре поставили диагноз – алкогольный цирроз печени, четвертая терминальная, с расплавлением ткани печени, с билирубином под пять сотен и последующей деменцией. И с соответствующим финалом. Внезапно – уж не знаю, терапия ли нашей первой больницы повлияла, или то, что Ленька, раздолбай и хулиган, бросил внезапно и сигареты, и выпивку, забрал обратно жену с ребенком от ее родителей, одел на шею крест, и стал регулярно кататься в мужской монастырь в ауле Яйхад – отец стал выздоравливать. Хотя при таком диагнозе слово «выздоравливать» в принципе невозможно.
— Только сегодня, вот святой истинный… — Ленька с мокрыми глазами оторвался от меня. – Больше – никогда, с-сука, никогда эту отраву!! Леш, веришь?!
— Верю, брат, верю-верю.
Тринадцать минут.
В коридор станции ворвались Аршак Минасян и Люся Микеш, сопящие, мокрые, тяжело дышащие.
— Ребята, вы чего зависли? Топам-топаем!
Мы шумно поднимаемся по лестнице, оставив в диспетчерской обязательный пакет – шампанское дежурной смене диспетчеров и легкий сидр для Нины Алиевны. Которая, разумеется, поморщившись, подарок примет, пробормотав строгое обязательное «Только песни не пойте!».
Дверь двенадцатой бригады нараспашку, здоровенный, составленный из трех, стол, изгибающийся буквой «Г» в сторону балкона. Гирлянды и мишура, развешанные по стенам, здоровенная елка, искрящая на упомянутом балконе яркими бликами огоньков, Лешка Вересаев, колдующий над здоровенным, обшарпанным, царских годов, музыкальным центром, пытающийся поймать радиостанцию пободрее.
— Астафьев, иди, поцелуемся в рот!
— Отвали, холоп!
Ашот Давляшьян, хам, быдло и мурло армянское, не слушая моих возражений – обнимает и звучно чмокает меня в щеки, больно уколов щетиной.
Фельдшера и врачи смеются.
Хватаю его за шевелюру, тереблю:
— Ара-вай-вай, не возникай, эээ!
Ашота я не понял сразу – как только увидел на станции. Небритое, хамовитое, переполненное понтами существо, мат через слово, оттопыренные пальцы и гонор. До второго месяца я его воспринимал именно как ублюдка, невесть как награжденного дипломом медицинского училища, невесть как очутившегося на линейной бригаде.
До того самого совместного вызова (Костенко, чутко уловив мою к нему неприязнь, поставила нас на одну бригаду), когда умирала бабушка с полным букетом старческих заболеваний – диабет, стенокардия, ИБС, два инфаркта в анамнезе… Вызвали, по сути, для того, чтобы хоть что-то сделать – семья сгрудилась у постели больной, дочь, сын, внук, сидящий у постели, гладящий руку умирающей, что-то едва слышно шепчущий.
Я лишь помялся в дверях комнаты, не понимая, чем можно помочь. Ашот – скинул с плеча кардиограф, на колени опустился перед лежащий на кровати бабушкой, натянул на пухлое от отеков плечо манжету тонометра, вонзил в палец скарификатор, забирая кровь для глюкометрии… зло зыркнул на меня, я заторопился, выстраивая у нее на груди рядок грудных отведений кардиографа. Через десять минут бабушка тихо умерла. Ашот еще минут пять, зло, шепча что-то непонятное и явно нецензурное, накачивал в манжету тонометра воздух, пытаясь найти хоть намек на давление.
Родные заплакали – понятно… хоть и ожидаемо, но никто не будет готов к этому, даже если ждет. Ашот тогда встрепенулся, первым стиснул внука за плечи: «Тише, мончас… маму сильно любишь, да? Маму сейчас поддержать надо, понимаешь, да? Давай потом поплачешь?». Пихнул его в сторону дочери умершей. Я сидел, писал карту, звонил старшему врачу и в полицию. Ашот, обняв осиротевших брата и сестру (внук, сжав зубы, держал маму за руку, не давая ей впасть в истерику), что-то поочередно им говорил – гулко, убедительно, то и дело срываясь на родной армянский язык, что-то успокаивающее и правильное, что-то, говорящее о том, что нет лучшей судьбы для матери, чем уйти вот так, в кругу своей семьи, которая ее любит и поддерживает, и что самое лучшее на свете – быть семье вместе, потому что ничего лучше семьи на этом свете вообще никто не придумал.
А по маме горевать уже глупо, мама уже где-то родилась, и пока вы тут носами шмыгаете, она уже покушать успела и спит, мы же не один раз живет, отвечаю! Потом был подъезд, внук – с красными глазами, сжимающий наши руки, шепчущий: «Ребята… спасибо вам… спасибо, родные».
— Ашотик, ты не мажься, чачу принес?
— Ора, не хипишуй, не на районе, ну! – Давлашьян, сверкнув черными глазами, выуживает здоровенную бутыль – полную прозрачной, и ядреной даже на вид, жидкости. – Все принес, все по понятиям, чего моросишь?
— Да так…
Десять минут.
Заходят восьмая и пятая бригады. Доктор Ярцев – злой, сопящий, уже пьяный, видимо – тот был еще вызовок; фельдшер Лена Цой, миловидная кореяночка, изящная, стройная, хрупкая и безумно добрая, всегда и всем улыбающаяся. Рассказывали – как-то ее избили на вызове, после этого, как приехал наряд полиции, она, лежа на носилках, все порывалась к больному… не успела анамнез собрать же, неправильно это…
Дина Лусман. Зашла, скривилась, уселась в уголок. Дина – одиночка, всегда избегает компаний, и мужчин, поговаривают, не любит.
Ашот торопливо разливает чачу в пластиковые стаканчики. Подбираю один из них, протягиваю Дине.
— Держи, Дин.
— Спасибо, — ровно, спокойно, без эмоций.
Семь минут.
— Успели! – рявкает Тема Громов, возникая в дверном проеме, пропихивая вперед напарницу. – Юль, давай шустрее, за стол!
— Без тебя ну никак бы не разобралась, дорогуша, — парирует Юля Одинцова, отряхивая полы форменной робы. – Мальчики, а шампанское есть? Я не фанат тяжелого алкоголя…
— Ау, не трынди уже, давай пей, дорогая! – налетает на нее Ашот. – Будет тебе шампанское, армянское, полянское, все будет, за стол иди!
— НА ВЫЗОВ БРИГАДАМ… — оживает селектор.
Долгий, яростный, ненавидящий многоголосый вопль.
— ШУТКА, РЕБЯТА! – голос диспетчера Тани сочится озорным весельем. – С НОВЫМ ГОДОМ ВАС, РОДНЫЕ! СПАСИБО ВАМ ЗА ТО, ЧТО ВЫ ЕСТЬ У НАШЕЙ СТАНЦИИ! ПУСТЬ ВСЕ У ВАС ВСЕГДА БУДЕТ ХОРОШО, И ЭТО ХОРОШО НИКОГДА НЕ ЗАКОНЧИТСЯ!
Голос диспетчера разносится по всем закоулкам станции, и раздается из всех трех динамиков, выведенных на улицу.
— ПУСТЬ ВСЕГДА ВАШ ВЫЗОВ БУДЕТ ВАМ В РАДОСТЬ! И ПУСТЬ ВСЕГДА ВАШ БОЛЬНОЙ БУДЕТ ВАШЕЙ ГОРДОСТЬЮ! ПУСТЬ ВСЕГДА….
— Тааааааня, твою ж бабку…! – орет Лешка Вересаев.
— … ВАШИ КАРТЫ ВЫЗОВА БУДУТ НАПИСАНЫ ТАК, ЧТОБЫ СЛОВАМ БЫЛО ТЕСНО, МЫСЛИ
– ПРОСТОРНО, А ПРОКУРОРУ – БЕЗУМНО СКУЧНО! – словно услышала его диспетчер. – ПУСТЬ УТОПИТСЯ В УНИТАЗЕ ВЫЗЫВАЮЩИЙ НА СОПЛИ, И ДОЖДЕТСЯ ВЫЗВАЮЩИЙ НА ИНСУЛЬТ! ПУСТЬ НИКОГДА НЕ СЯДЕТ БАТАРЕЯ НА ВАШЕМ КАРДИОГРАФЕ, ПУСТЬ ВАШ ТРОПОНИНОВЫЙ ТЕСТ ВСЕГДА ПОКАЗЫВАЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, ПУСТЬ ВСЕ ВЫЗОВЫ ЗАКОНЧАТСЯ ЗА ПЯТЬ ЧАСОВ ДО ПЕРЕСМЕНКИ, ПУСТЬ ФРАЗА «СПАСИБО, ДОКТОР» СРАЗУ АВТОМАТИЧЕСКИ ЗАЧИСЛЯЕТСЯ НА ЗАРПЛАТНУЮ КАРТУ…
Три минуты.
— ХВАТИТ, ЛИХАЧЕВА, — раздается в селекторе голос Нины Алиевны. Мы, не сговариваясь, встаем.
— ПРОСТО – СПАСИБО ВАМ ВСЕМ, ЧТО ВЫ РАБОТАЕТЕ, ВРАЧИ И ФЕЛЬДШЕРА.
Взрыв, второй, третий. Праздничная пиротехника начинает входить в полную силу – собирая непременную жатву этой ночью.
Мы стоим, сжимая пластиковые стаканчики с армянской чачей. Стоим у праздничного стола, разнокалиберной такой компанией. Армянин, еврейка, украинец, татарин, грек. Атеист, мусульманин, христианин, буддист… ну и я, сумасшедший, верующий во врача Егора, которого никто не видит, кроме меня.
— СПАСИБО ВАМ ЗА ВАШ ТРУД. СПАСИБО ВАМ ЗА ВАШЕ РЕШЕНИЕ СТАТЬ МЕДИКАМИ.
Хамовитый Ашот. Сумасшедший Лешка Астафьев. Лесбиянка Дина. Грубиян Тема Громов. Пьющий доктор Миша Ярцев – пьющий, но талантливый. Молчащая в углу Мадина Алаева, сжимающая в руках телефон (ибо супруг требует отчета каждые пять минут).
— ВАШ ЖИЗНЕННЫЙ ПОДВИГ НЕЗАМЕТЕН И НИКОГДА НЕ БУДЕТ НИКЕМ ВОСПЕВАТЬСЯ. НИКОГДА И НИКЕМ…
Мне показалось, или в голосе Нины Алиевны что-то надломилось?
Одна минута.
— НО ЭТО ВАШЕЙ РАБОТЫ И ВАШЕГО ЕЖЕДНЕВНОГО ПОДВИГА – НЕ УМАЛЯЕТ. ХРАНИ ВАС БОГ, МОИ ДЕТИ ЛЮБИМЫЕ…
Селектор отключился, с легким фоном – словно микрофон уронили, сдавив рукой…
Гулко ударили куранты.
Я протянул руку со стаканчиком навстречу потянувшимся ко мне рукам.
Нет веры, нет нации, нет богатых и бедных.
Есть лишь люди, понимающие, что кровь у нас у всех одинакового цвета.
Люди, добровольно, не по принуждению, надевшие на себя синюю форму с красным крестом. Разные люди, непохожие друг на друга, собравшиеся сейчас здесь, на одной станции, потому что когда-то, в один момент жизни это осознали. Поняли, несмотря на разную веру, несмотря на разный социальный статус, несмотря на разный уровень достатка, несмотря на все – поняли, что нет ничего дороже человеческой жизни.
Запрокинув голову, я лью в себя волшебную чачу фельдшера Ашота. Замираю, позволяя жидкому огню стечь по глотке, ударив мягкими теплыми кулачками по стенкам желудка.
Полночь. Куранты умолкают.
— НА ВЫЗОВ БРИГАДАМ!
© Олег Врайтов