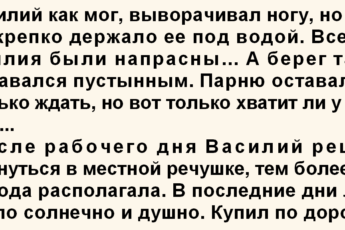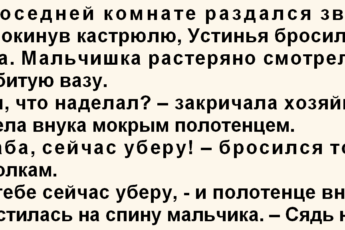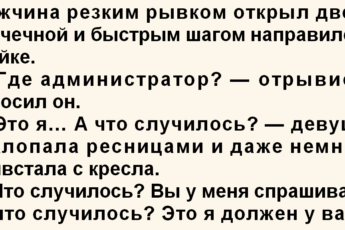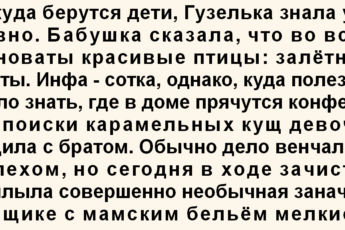Бабку Веру в деревне не любили, потому что она сама людей не жаловала. И «не жаловала» – это наиболее безобидное, что можно было бы сказать. Не любила она людей, ненавидела просто. В этом мнение всех деревенских было единодушным.

Была она здорова, что твоя холмогорская корова: широка в спине и бёдрах и высока – многих мужиков в деревне заставляла голову задирать, когда им случалось с нею заговорить. Заговаривали, на самом-то деле, нечасто, потому как даже на приветствия при встрече она не отвечала, кажется. Так, едва что-то буркнет в ответ и даже глаза на человека не поднимет. Вернее, не опустит, потому – рост ведь у неё.
Жила в самом центре деревни, в большом старом доме, который, кое-кто это помнил, срубил ещё её отец. Дом был огорожен высоченным глухим забором, за который заглянуть отваживались немногие, потому как бабка на расправу была крута.
Как-то летним вечером подвыпившие местные парни, проходя мимо, на забор её залезли. Из любопытства просто, чтобы хоть заглянуть: как там живёт бабка Вера. Она в окно увидала, вышла на порог с охотничьей двустволкой, тоже – отцовское наследство, и, ни слова не говоря, пальнула у них над головами. Всё. Больше старуху не беспокоили…
У неё и хозяйство было. Немалое хозяйство. Водила кур и уток. Держала кроликов и козу. Куда, скажите, такую прорву животины одной? Ведь и пенсию же получала, вполне могла бы и на неё прожить. Нееет… Жадность, видно, душила старуху. Птицу и кроликов сама забивала и везла на рынок в город, где расторговывалась в один день, и, заложив пачку денег за пазуху, возвращалась домой. Из козьего молока делала сыр домашний, по собственному рецепту, и тоже – на продажу. Цену держала высокую, но говорили, что у старухи была в городе своя клиентура, которая отоваривалась у неё охотно, потому что всё – без обмана: и птица всегда чистенькая и свежая, и кролики – жирные, и яйца – по кулаку.
Когда где-нибудь в деревне разговор заходил о старухе, старожилы вспоминали, что такая угрюмая да скрытная она сызмала была. Мать у неё померла рано, Верка ещё по полу ползала. Остались они вдвоём с батей – таким же здоровенным, угрюмым и нелюдимым человеком. Он через несколько лет привёз из какого-то дальнего села новую жену, но спустя месяц (в деревне все тогда видели) подалась она со двора с чемоданом к станции. И – всё. Остались Верка с отцом вдвоём вековать.
Ещё через несколько лет, когда Верка была уже девкой на выданье, отец уехал в город продать то, что произвели в своём нехитром хозяйстве, да там и пропал. Так и осталось ни для кого не известным, что с ним приключилось–поделалось. Не то убили, не то (кое-кто говорил в деревне и об этом) уехал во след за женою своей второй, которая в их доме (и такие предположения строили!) из-за Верки жить не стала. Но, как бы то ни было, осталась Верка одна. Навсегда теперь уж. Замуж так и не вышла. Оно и понятно! Кто ж рискнёт с таким-то мамонтом северным жить.
Вот так и была она в деревне долгие и долгие годы. Люди, рядом жившие, умирали. Рождались новые, а бабку Верку время стороной обходило – даже сединой не покрывало. Хотя, кто ж его знает: голова её в любое время года была покрыта платком по сезону, из-под которого только торчали, монументальный подбородок, крупный орлиный нос и широченные брови. Вот брови – всегда и были чёрными.
Когда однажды зимой у её соседей Никифоровых среди ночи вспыхнул, как свечечка, дом, то бабка Верка молча пришла к ним на подворье со своим багром и вместе с хозяевами, ещё до приезда пожарной команды, пожар тот погасила. Она так умело багром этим орудовала, растаскивая горящие брёвна по снегу, что потом хату удалось сложить заново почти из одного старого – ничего, практически, сгореть не успело.
А вот когда умерла бабка Верка, то хоронить её из районного центра, куда она на рынок-то торговать ездила, прикатилась директриса детского дома Алла Ивановна. Сама приехала, с нею три воспитательницы и человек десять ребятишек–воспитанников.
Деревенские всей толпой, больше из любопытства, чем из сострадания, повалили на бабкин двор, и тут-то увидели: на дворе, в хозяйстве, порядок у старухи был образцовый. Курятник, клетки для кроликов, сарай для козы – как в кинохрониках, в которых показывали раньше какие-нибудь заграничные идеальные хозяйства.
Когда же вошли в дом, то и там чистота была идеальная. Только вот – пусто совсем. Стол, стул возле, кровать железная с панцирной сеткой продавленной, кособокий пустой буфет, в котором красовались одна щербатая тарелка, в которой лежали ложка и нож, и керамическая кружка с отбитой ручкой. Вдоль окна – простая тесовая лавка, залоснившаяся от долгого употребления – когда-то на ней, видно, многие сиживали. На печи же лежала какая-то аккуратно свёрнутая одежда. И – всё.
Нет, на столе лежал конверт, старухиной рукой, видно, подписанный:
«Алле Ивановне Косогоровой от Веры Вениаминовны Одинцовой»
Директриса детдомовская конверт взяла, вскрыла и прочла то, что было написано на листочке, вырванном из школьной тетрадки…
Это уже потом директриса рассказала, что лет двадцать уже баба Вера каждый месяц в их детский дом деньги переводила. И деньги серьёзные, очень в хозяйстве помогавшие.
А в записке, оставленной для неё старухой, вот что было:
«Дом со всем содержимым и хозяйство завещаю детскому дому № 3…
А ниже приписка – продолжение высказывания древнерусского князя Святослава Игоревича:
…Дети вины не несут».
Автор: Олег Букач