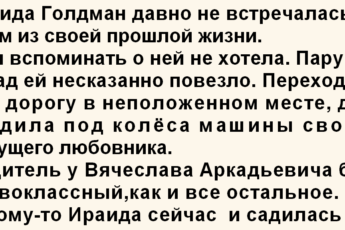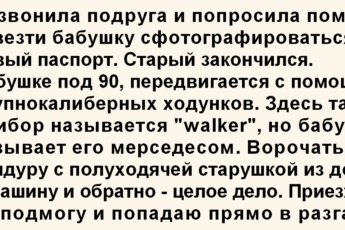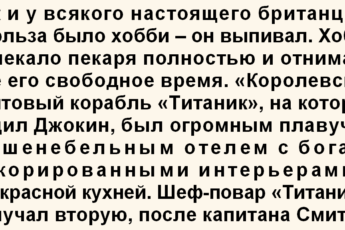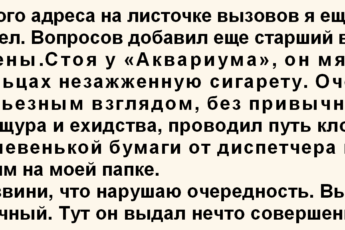Когда-то давно стояла на берегу Дона-батюшки станица. Ни большая, ни маленькая — в самый раз. Населяли её люди честные, приветливые. Дедов-прадедов чтили, друг за друга горой стояли. Пришла радость – одна на всех. Горе пожаловало – разделили поровну. Земляков в лицо знали, а к незнакомцам относились настороженно. Времена были неспокойные, от случайных людей добра ждать не приходилось.
В ту пору жил в станице добрый казак Степан с молодой женой Настасьей.
Вышла раз Настасья утром по воду. Видит, ветер по дороге пылевой столб гонит. Померещилось казачке, будто это человек по дороге бежит, волчком вертится, сам вокруг себя пыль поднимает. Она даже зажмурилась и головой тряхнула – быть того не может! Открыла глаза — и правда. Дорога чистая, никакого ветра, листья на соседской груше и те не колышутся.
Настасья в ту пору ребёнка ждала, подумала – голова закружилась. Постояла немного, и дальше отправилась.
У криницы* задерживаться не стала, набрала воды и заспешила домой. Идёт — навстречу чужак. Головой по сторонам вертит, в дворы заглядывает, словно высматривает где что плохо лежит. Поравнялись — мать честная! Босой, рыжий, не мыт, не чёсан, борода чуть не до пояса. Один глаз косит, на другом бельмо. Одежда грязная, рваная. Улыбается, на весь рот один зуб и тот гнилой. Таким только детей пугать.
— Не дашь ли, красавица, водицы испить? Запалился я. — Говорит и не понять – то ли искренне, то ли насмехается.
Захолонуло сердце у Настасьи, словно беду почуяло. Про себя подумала: «Дай такому в ведро морду сунуть, ещё заразы какой наберёшься». Вот и ответила:
— Да ты пройди чуть, добрый человек, криница тут недалеко. Там тебе и напиться, и умыться с дороги сподручней будет. Извини, спешу я. – Сама шаг ускорила, будто и впрямь домой торопится.
Того не видела, как перекосило у чужака лицо злобой, плюнул ей вслед и прошипел:
— Чтоб тебе урода родить, хлебать с ним горя, не выхлебать.
Позже пришлого оборванца у криницы видели. Недолго задержался – только губы помочил, набрал в баклажку воды и убрался скоренько вон из станицы. На другой день о нём уж никто не вспомнил.
Скоро, нет ли — минул положенный срок, родила Настасья дочку ладную да пригожую. Только недолго радовалась. Чем старше девчушка становилась, тем дурнее лицом делалась, словно кто нарочно черты кривил. К семи годам и вовсе стала рыжей, конопатой, нос горбатым клювом изогнулся – вылитая маленькая ведьма. Дети играть с ней не хотели, гнали прочь, дразнили Конопулей. Приклеилось к девочке прозвище, да так крепко, что никто уж не звал её Аксиньей, как отец с матерью нарекли. Одни родители кликали и любили по-прежнему.
Вскоре совсем перестала Аксинья на улицу выходить. Как ещё подросла, начала упрашивать отца:
— Построй, батя, высокий забор, чтоб меня никто не видел, да и я никого.
Зажурился казак. Не дело это от соседей заборы до небес городить. И так дочке объяснял, и эдак – мол, тебе с людьми жить, а она своё – знать никого не хочу, все злыдни, только насмехаться умеют, да пакости исподтишка строить.
Ещё через пару годков пришла в дом казака большая радость – сын родился. Настасья на малыша не надышится, не налюбуется. Степан лицом просветлел – дождался продолжателя рода.
Известно, когда маленький в доме – всё внимание ему. Вот Аксинья и почувствовала себя ненужной, решила, что родители её разлюбили.
Ровесницы уж невеститься начинали, а она на улицу глаз не казала. Забьётся в уголок, обнимет кошку, поплачет горько. Слезы высохнут, а на душе легче не станет.
Подрастает малыш, год от года краше становится. В доме только о нём и разговоров. Аксинье вовсе невмоготу сделалось.
Смотрит на брата, чувствует – поднимается в душе тёмная злоба. Так бы и треснула ненаглядного башкой о стену, чтоб пропал на веки вечные, и снова стало по-прежнему, когда отец с матерью лишь о ней думали.
В один из дней, когда не было старших в горнице, совсем решилась. Подхватила малыша на руки, размахнулась, да вовремя опомнилась. Как же можно брата жизни лишить? А малютка и не понял ничего, смеётся, думает с ним играют.
Испугалась Аксинья наваждения страшного. Сердце заколотилось, будто пробежала без остановки всю станицу из конца в конец. Едва мать на порог, сунула ей малыша, и вон из хаты.
Никак в себя прийти не может. Думает, ну как в другой раз не удержится? Беды натворит? Уж лучше самой утопиться!
На дворе июль, жара, все от солнечного зноя в тень попрятались, а Аксинью озноб бьёт, аж зубы стучат. Выскочила за калитку, понеслась к реке. Со всего разгона в воду бухнулась, прямиком к другому берегу устремилась.
Вдруг слышит за спиной крик:
— Стой, скаженная! Сделай хоть одно доброе дело, чтобы людям было чем тебя помянуть!
Вздрогнула Аксинья от неожиданности, оглянулась.
Стоит на берегу старушка в белом платке, рукой машет, к себе зовёт. Да так по-доброму, по-хорошему, что невольно послушалась её, подошла.
Бабулька заулыбалась приветливо, из уголков глаз морщинки лучиками разбежались. Приобняла Аксинью за плечи, говорит ласково:
— Вот и славно, вот и умница. Помоги мне траву к порогу доставить. Видишь, сколько набрала, а тащить — сил нет. И чтоб ей поближе расти, окаянной! Так нет же, только у реки и водится.
Смотрит девушка — мешок у бабки и впрямь не маленький, битком набит. Не стала спрашивать, далеко ли нести придётся, да что за трава такая странная, взвалила на плечо и пошла следом. Старушка — в степь. Идёт да идёт. Аксинья за ней.
Солнце уж на ночлег собралось, когда добрели до хутора. Посреди широкого двора стоит хатёнка. Крепенькая, чистая, словно вчера выбеленная. Выбежал навстречу лохматый пёс.
Хвостом виляет, у ног вьётся, радуется – хозяйка вернулась.
Пора бы помощнице в обратный путь, да боязно. Никогда от дома далеко не уходила, недолго и заблудится. Степь-то оказывается, вон какая широкая!
Старушка, словно мысли её услышала, говорит участливо:
— Куда тебе идти, на ночь глядя? Оставайся до утра. Поможешь траву разобрать, а я тебя научу как конопушки извести.
Удивительно Аксинье стало – чужой человек, а словно о родной внучке печётся. Посветлело на душе, помогать принялась охотно. Пока управились – стемнело.
Тут бабулька дверь на запор, приглашает вечерять. Сели за стол. Ужин не богатый – хлеба краюха, молоко да каша, но после маетного дня и такому рады. Слово за слово, завязалась беседа.
Узнала Аксинья, что очутилась на подворье у Фёклы, известной на всю округу знахарки. Рассказала ей обо всём, что на сердце камнем лежало, поблагодарила за хлеб-соль.
— Не тужи, — утешает хозяйка. — Ложись спать. Жизнь долгая, а утро вечера мудренее. Глядишь, образуется всё как-нибудь.
Намаялась Аксинья за день, едва прилегла, одолел её глубокий сон.
А Фёкла кинула в печь сухой полыни, достала из сундука большую рукописную книгу, открыла и принялась ворожить. Под её взглядом буквы в живые картинки обращаются, листы сами собой переворачиваются. Показывается всё тайное, сокрытое, прошлое и будущее.
Так и вызнала старая, отчего с Аксиньей беда приключилась. Закрыла книгу бережно, убрала в сундук и сама на покой отправилась.
На другой день говорит гостье:
— Помоги мне в хате управиться, а я в станицу схожу, передам родителям, чтоб не волновались.
Сама же задумала девушку испытать. Ушла на целый день, а когда воротилась, видит – всё ладно да справно. На дворе чисто, в хате прибрано, ужин готов. Аксинья старушку с радостью встретила, помогла собранные травы разобрать. Спросила, сильно ли отец с матерью на неё сердятся.
Видит знахарка – добрая душа у девушки, хорошая. Пожалела и решила ей помочь.
Как уснула Аксинья, достала бабка из сундука бубен, трав разных сухих к поясу навязала и отправилась в степь. Луна на небе полная, светит ярко, округу далеко видно.
К полночи добралась до костровища тайного, сложенного у плоского белого камня. Развела огонь, сама на камень стала.
Ударит в бубен, пошепчет – одну траву в пламя бросит, ударит ещё – другую. Так все травы в огонь покидала, а потом застучала часто-часто, приказала грозно:
— Отворитесь ворота сонные, ворота заговорённые, разорвись кольцо, покажи лицо, кому горе избыть, прошлое воротить!
Повалил из костра густой сизый дым, показалось лицо Настасьи, каким было много лет назад, перед тем как довелось ей с чужаком повстречаться.
Говорит знахарка строго:
— Слушай меня, поутру не забудь. Чтоб не было тебе горя великого, жило твоё дитя — не печалилось, кто бы ни попросил воды испить – не отказывай!
Сказав, ударила в бубен громко, возвысив голос, повелела:
— Кольцо замкнись, прошлое воротись.
В последний раз под её рукой бубен пропел. Дым развеялся. Догорел костёр. Легла Фёкла промеж белого камня и тлеющих углей, веки смежила.
Видится ей, несёт ветер по станичной дороге пылевой столб, а кажется, будто это человек бежит, волчком вертится, сам вокруг себя пыль поднимает. Долетел вихрь до околицы, пыль осела, остался на дороге рыжий колдун. Усмехнулся и пошёл назад. Навстречу ему пригожая казачка. Колдун ей говорит:
— Не дашь ли, красавица, водицы испить? Запалился я.
Побледнела казачка, отвечает:
— Отчего ж не дать, пей добрый человек.
Колдун к ведру припал, долго пил, жадно. Затем вытер ладонью губы, подмигнул:
— Ох, и красавица дочка у тебя будет, смотри не избалуй!
Засвистел и пошел своей дорогой. А молодуха с перепугу поскорей к себе во двор юркнула.
Проснулась утром Фёкла, воротилась домой. В хате пусто.
На другой день поднялась она до светла. Собралась быстренько, прихватила баклагу и отправилась в станицу.
К тому времени, когда казачки по воду пришли, уже у криницы была. Смотрит — все хороши, а одна дивчина особенно. Коса тёмная, толстущая, ниже пояса, сама статная, смешливая, словно солнышко светится. Рядом с ней всем радостно. Набрала красавица воды, домой отправилась.
— Это чья ж, такая? – спрашивает Фёкла у станичницы.
— Так Настасьина дочка – Аксинья. Ох, и шустрая! Огонь девка! Степан женихов дрыном* отгоняет, чтоб плетень не повалили, — рассмеялась казачка.
Улыбнулась Фёкла, набрала водицы в баклажку и отправилась восвояси.
А ведь верно старики говорят — добрые дела чудеса творят.
*криница — источник ключевой воды, неглубокий колодезь.
*дрын — длинная палка, дубинка или что л. другое, обычно предназначаемое для удара.

Автор: Чёрная Палочка