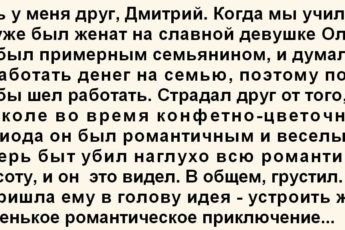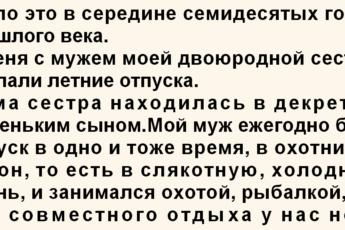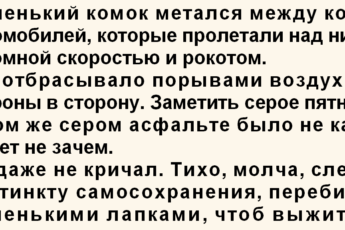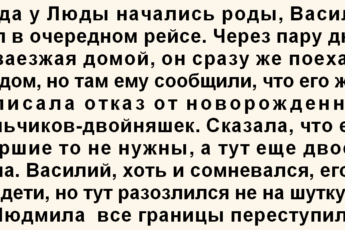Каждый вечер Семеныча начинался одинаково. Он знал, что это настанет и готовился уже с обеда. Злился и начинал психовать.
Прямо над ним, в квартире на четвертом этаже жила придурочная. Деваться Семенычу было некуда, не переезжать же в самом деле, из-за этого? Денег потратишь, а гарантии никакой, что в новом доме не напорешься еще на худший вариант.
Что Семеныч только не придумывал: и писал жалобы участковому, в прокуратуру; звонил в психушку – в конце концов, психи это по их части; жаловался председателю и соседям; орал на мать придурочной – толку ноль.
Одно время Семеныч даже уходил из дома на это время – гулять. Вроде даже спокойнее стал, щеки порозовели, аппетит нагулял и даже спать стал лучше, избавился от бессонницы. Но потом разозлился еще больше и плюнул на эти буржуазные замашки – прогулки перед сном! Чего это еще! Он в своем праве – быть в своей квартире в то время, когда ему заблагорассудится.
Поэтому вечером Семеныч садился в комнате у батареи и ждал.
Придурочная приходила как по расписанию – в девять. И начинала стучать по батарее. Тихонько. Но звук раздражал. Семенычу хотелось тишины. Что он не заработал, в самом деле! Он передовик и ветеран труда!
В общем гвалте многоквартирного дома никто и не замечал тихого постукивания придурочной, но Семеныча это бесконечно бесило. И поэтому он начинал стучать в ответ. Раздраженно и громко. Небольшим молотком. По трубе ведущей в квартиру придурочной.
Она жила с матерью. Отец, то ли потерялся, то ли сбежал, то ли его никогда и не было. Сначала Семенычу было немного стыдно ругаться с матерью придурочной, ведь ростит одна убогую. Но потом, один раз не выдержав он наорал на нее в подъезде.
У женщины задергались губы, задрожал подбородок, она пискнула:
— Извините, — и убежала наверх.
Семеныча это страшно разозлило. Вот если б она наорала на него, чего мол, дочь мою обижаешь! Тогда бы может Семеныч и не стал больше к ней приставать. И, правда, чего с придурочной взять. Не так уж и громко она стучала. Но раздражала страшно.
— Не место таким в доме! – орал ей вслед Семеныч. – Сдать ее надо!
Ему было как-то тоскливо и неприятно это кричать, но остановиться он уже не мог.
— Нагуляла поди! А приличные люди теперь маются! Спать не могут!
— Ты, Семеныч, конечно, ветеран труда, — на крик выглянула Ираида, — но дурак. Зачем привязался к женщине?
— Сама ты дура! – огрызнулся Семеныч.
И ушел сильно разочарованный спать. Долго возился, сон не шел. И это раздражало еще сильнее. Так бы и взял кувалду и врезал по этой трубе, но тогда весь дом и он останется без отопления.
Часа в три ночи, жена Светлана Ивановна не выдержала, включила ночник и пихнула Семеныча в бок:
— Ты совсем уже? – неожиданно резко сказала Светлана Ивановна. – Время ночь-полночь, сам не спишь, мне не даешь! Совесть замучила, да?
— Ты про что это? – со сна не понял Семеныч.
— Как про что? – рассердилась Светлана Ивановна. – Про соседей! Что тебе девочка эта жить не дает? Больная! Матери и так тяжело! А ты! Орешь на бедную женщину.
— Нажаловались уже, — пробурчал Семеныч и отвернулся.
Обиделся на жену и не разговаривал неделю. А в пятницу утром, не дождавшись завтрака, обнаружил, что жены нет, и завтрака нет, а есть записка:
«Уехала к дочери. Буду… когда-нибудь буду».
И все: ни обеда и ужина в холодильнике, ни чистых носков и маек в шкафу, ни целую тебя, ни люблю. Ну, что это!
Семеныч с тоскливым предчувствием открыл холодильник – пусто. Два яйца на полке и кусочек масла. Хлеба нет. В ванной полный таз его грязной одежды. В шкафу ни одной перемены белья! Это страшно разозлило Семеныча. Он вернулся в комнату и сел на диван. Диван недовольно скрипнул. Семеныч почувствовал странное родство с этим старым диваном – такой же потрепанный, скрипучий и в принципе никому не нужный. Пора на свалку.
Жена и раньше уезжала к дочери в Москву – помогать с внуком, но всегда торопилась обратно. Извиняясь перед дочкой, что мол, знаешь ведь, папка у нас не приспособленный к одинокой жизни. Но перед отъездом готовила Семенычу на неделю вперед, складывала стопочкой чистое белье в шкафу – поглаженное, ни одной морщинки. А теперь Семеныч сидел в пустом, голодном и не прибранном доме и чувствовал себя бесконечно одиноким и брошенным. Не нужным.
В магазин не пошел. Назло. Кому? Жене. Не выдержал, съел два яйца вкрутую. Обжигаясь, очистил и стоя прямо у плиты намазывал на горячее яйцо масло. Масло таяло и капало на пальцы, на штаны и на пол. Скорлупа мелкой крошкой хрустела под ногами. От такого свинарника Семеныч озлился еще больше. Пальцы, опять назло, вытер о штаны и ушел в комнату. Почитал газету, потыкал в пульт, переключая каналы. Но мысленно все время выговаривал жене, что бросила его голодного. Подумаешь, дочь! Взрослая уже. И детей сама захотела. Им, вот, никто не помогал. Сами как-то ростили.
Хотел было к приятелю сходить в партейку перекинуться, но передумал. Маялся так до вечера. Не выдержал и пошел по темноте в магазин. Долго блуждал среди полок, не понимая, что ему надо. Раньше приходил и брал только хлеб, сигареты, иногда пиво. А теперь надо бы сготовить что-то. Проходив полчаса между полками, Семеныч сердито кинул в корзину сардельки и хлеб.
Дома сварил два сардельки и сел перед телевизором, ломая буханку, сжевал всухомятку. Не нашел заварки. Опять в магазин придется идти.
Первый раз забыл о придурочной. Не приготовился. С ненавистью щелкал каналы в гостиной. Спать еще рано, а смотреть совершенно нечего. Выключил телевизор и в наступившей тишине услышал в спальне тихое постукивание придурочной по батарее.
Семеныч посмотрел на часы. Уже пять минут как стучит, болезная! Обрадовался, побежал в спальню и первый раз, пометавшись, взял в руки не молоток, а карандаш, и тихо, немного испуганно постучал в ответ.
Придурочная замолчала, словно испугалась от неожиданности. А через минуту ответила. Нежно и как-то по-другому:
— Тук… тук-тук… тук, — спросила Семеныча, «как дела?».
Семеныч задумался, как рассказать через перестук, как у него дела? И застучал – то жалобно, то возмущенно жалуясь на жену и дочь. Бросили. Бросили. Старый. Ненужный. Одинокий.
Каждый вечер Семеныча начинался одинаково. Он знал, что это настанет и готовился уже с обеда. Ждал. Проверял по несколько раз свой карандаш. Молоток давно отнес в кладовку. И стучал: то заботливо; то раздраженно, если плохо себя чувствовал; то просто делился мыслями о жизни; то рассказывал о приятелях, которых бросил посреди партейки, потому что девять вечера и она ждет.
Через две недели позвонил жене, не выдержал. Так на долго она еще не ездила. Но перед звонком подумал, как ей рассказывать, о них, ну… о ней… ну точнее, об их разговорах по вечерам… ну с этой… тут Семеныч первый раз задумался, а как ее зовут? Ну, не называть же человека придурочным, если он уже столько о тебе знает?
Но после разговора с женой, все стало с ног на голову. Потому что жена сказала ему, на простой, в сущности, вопрос «когда вернется?» — странные вещи:
— Уморил ты меня, своими придирками, старый козел. Я решила, что останусь у дочери. Не знаю, вернусь или нет, — и повесила трубку, не дожидаясь ответа Семеныча.
Он посидел, глядя на телефонную трубку, не зная, как реагировать и что чувствовать в этот момент. Потом осторожно положил ее на стол. Сварил себе две сардельки и отломил кусман хлеба. Съел. Потыкал в пульт. Раздраженно бросил его.
Проснулся среди ночи, экран телевизора метлишил серой рябью. Семеныч выключил его и пошел в спальню. На тумбочке увидел карандаш, и посмотрел на часы – три ночи. Расстроился. Ждала ведь поди, болезная-то. Стучала. А он проспал, старый дурак.
На следующий день Семеныч сел у батареи в половине девятого. Приготовился. Ждал до половины десятого. Тихо.
Ждал ее еще три дня, позабыв про жену и то, что его бросили. Волновался.
Днем пошел в магазин за сардельками и увидел Ираиду. Помялся и неуклюже спросил:
— Где придурочная-то? Неделю уже не слыхать. Тишина, даже странно… — и хмыкнул, чтобы Ираиде не показалось, что ему интересно на самом деле, где болезная.
— Дурак, ты Семеныч, — рявкнула на него Ираида. – В больницу положили девочку, на Банную! Приступ был, – и захлопнула дверь с такой силой, что посыпалась штукатурка.
Семеныч не видя, бродил по магазину, не сразу вспомнив за чем пришел. Кинул сардельки в корзину, хлеб. И долго стоял перед витриной с шоколадом. Выбирал. Придирчиво читал состав: орехи, изюм, лепестки роз и прочую канитель девчонки любят. Взял две плитки – разные.
Долго стоял в подъезде, поджидая мать болезной, мялся у почтовых ящиков вроде как письма и газеты доставал. Дождался. Сунул ей шоколадки:
— Дочке отдай. Любит, поди? Поправится она, обязательно поправится.
Мать придурочной прижала шоколадки к груди, стараясь не заплакать, только головой кивала, как вроде спасибо.
Семеныч похлопал ее по плечу, чувствуя себя идиотом:
— Как зовут-то девочку?
— Вика, — пискнула мать, шмыгая носом.
«Поправиться, обязательно поправится», — твердил весь вечер про себя Семеныч, сжимая карандаш...

Автор: Галина Шестакова