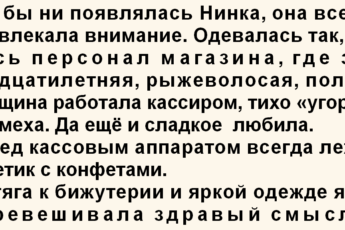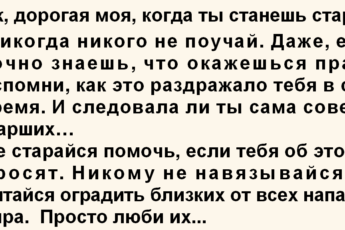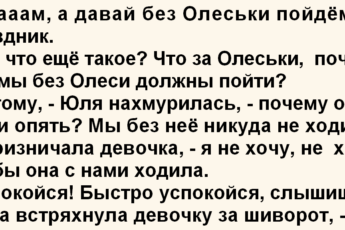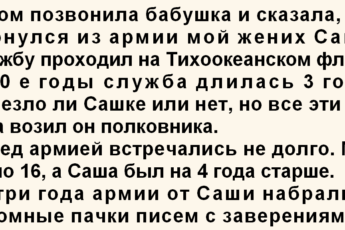Маленький сгорбленный старичок в супермаркете, прихрамывая, бродит между рядами и набивает тележку самыми дорогостоящими деликатесами. Перед тем, как положить туда нарезку испанского карбоната или бутылку шотландского виски в клетчатой коробке, он внимательно их разглядывает, взвешивает то на одной, то на другой руке, и глаза его сияют нежно и плотоядно, и всё лицо вздрагивает, собирается в гармошку и беззвучно смеётся.
«Тролль какой-то, — думаю я, наблюдая за ним. – Из пещеры вылез. Деньгами сорить. Наверное, юбилей свадьбы у горного короля. А это его камердинер или шеф-повар».
— Голубушка! – говорит старичок продавщице. – А почему у вас опять нет Шато Бурбона тысяча восемьсот девяносто пятого года?
— Дед, шёл бы ты отсюда! – говорит продавщица, продолжая поправлять ценники. – Учти, если хоть что-нибудь разобьёшь, я тебя в милицию сдам.
— Надь, что, бурбон опять припёрся? – раздаётся голос из-за другого прилавка. – Надо охране сказать, чтобы его не пускали!
— Не пустить меня вы не можете, — рассеянно говорит дед, разглядывая упаковку с нарезанным балыком. – У вас нет на то юридических оснований. И свежевыжатого гранатового сока у вас тоже почему-то нет. А вчера был. А?
И, не дожидаясь ответа, тихо смеётся и едет дальше, к рядам с кондитерскими изделиями.
«Нет, не тролль, — думаю я. – Его тут уже знают. Может, Коровьев или Бегемот? Может, пора мне того… ноги уносить, пока не поздно?»
Но оторваться от созерцания столь занятного старичка выше моих сил, и я следую за ним по всему супермаркету, глядя, как он бережно, с радостными причитаниями, укладывает в тележку коробки с пирожными «Лето в Париже», аккуратно заворачивает в пакетики тёплые булки с тмином и целует в этикетки длинные, причудливых форм, лиловые винные бутылки. Это зрелище увлекает и завораживает.
Вместе с ним я начинаю предвкушать это невиданное пиршество в горной пещере, при свете звёзд и факелов, под душераздирающее хрипение волшебной волынки. Старик замечает краем глаза моё к нему внимание, щёлкает языком, подмигивает мне, — а потом разворачивается обратно и начинает так же бережно расставлять все товары по местам. Он расставляет их чётко, ничего не путая и сопровождая каждый из них прощальными вздохами и воздушными поцелуями.
Наконец на дне тележки остаются только буханка хлеба и две плоские упаковки сосисок. Старик лихо разворачивает тележку и направляет её к кассе, выбрасывая по пути то одну, то другую ногу, припрыгивая, прихрамывая и распевая во весь голос:
Сосиски, сосиски,
Сосиски пармезан,
Вы созданы лишь для развлеченья!
— Дядь Коль, хватит уж чудить-то, не мальчик, всё-таки, — устало говорит ему кассирша, пробивая сосиски и кидая их в подставленный мешок. – Вечерком приходи, я тебе рюмочку налью, если Анн-Семённы не будет.
Старик смотрит на неё, прищурившись, затем кивает и выходит из магазина. Через пару минут с улицы доносятся его радостные вопли:
— Ну, куда, куда морду свою суёшь слюнявую? Это тебе не абы что, а пармезан, шестьдесят два рублика за упаковку! Это ж понимать надо! В очередь, сукины дети, в очередь!
«Нет, всё-таки Булгаков, — думаю я. – Почему всё время и везде Булгаков? Я же его ведь и не люблю на самом деле-то, если уж честно признаться… И прежде не любила, а уж теперь и вовсе надоел он мне безмерно. Когда же он отвяжется-то от меня?»
Выйдя из супермаркета, я застаю моего старичка на лужайке в окружении мрачных разномастных псов, торопливо глотающих куски сосисок, которые он им бросает с весёлым гоготом, поучениями и причитаниями. Кода сосиски заканчиваются, старичок идёт на круглый мостик, перекинутый через Яузу, и, свесившись через перила, крошит в воду батон и разговаривает при этом с кем-то, мне невидимым.
Потом подбирает две корявые палки и я, внутренне похолодев, жду, что сейчас он заиграет на них, как на скрипке. Но он берёт их покрепче и начинает вызванивать на перилах сумбурную, но бодрую дробь. Обнимающиеся на другом конце моста парень с девушкой фыркают и непроизвольно дёргают плечами в такт перезвону. Солнце сияет в грязной яузской воде и разбивается на множество ярких бесформенных осколков.