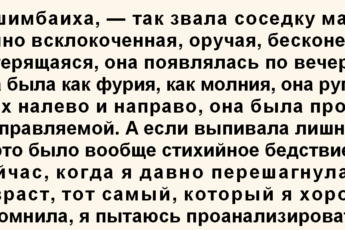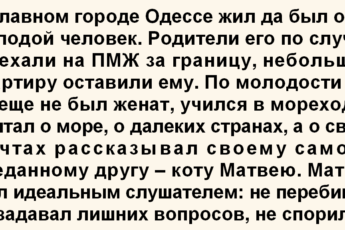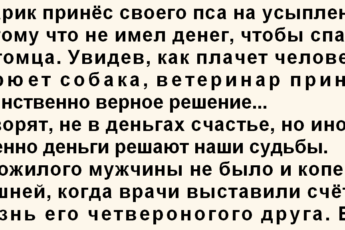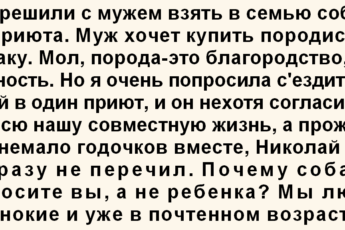— Киса-киса, — звала бабка Пелагея, — куда же ты опять запропастилась?
Маленькая сухонькая старушка в белом платочке стояла на деревянном крылечке с тремя покосившимися ступенями и глядела окрест. Её дом на окраине села был самым обветшалым. Редко где проглядывала ещё не до конца облупившаяся зелёная краска, крошился и просел фундамент, покосились оконные рамы.
Внук — сын покойной дочки, как наведывался – всё предлагал ремонт сделать. Как-то рабочих привёз, в день крышу починили, крылечко подремонтировали, но Пелагея просила больше не затеваться. Уж больно ей утомительно всё это было. «Дай мне, внучек, спокойно дожить, как есть», — просила. Он возражал, заботясь о бабке, в город к себе звал. У него в районе дом большой, места всем хватит. И жена его – Настёна, добрейшая душа.
Но не могла Пелагея уехать: «А как Фёдор вернётся? Я же обещала дождаться».
Фёдор – это младшенький. Это её боль и горе. Трое деток было у Пелагеи.
Старшенький Алёшка военным стал, да погиб на учениях, не успев жениться. Дочку Полину болезнь забрала. Но хоть замужем побывала, сыночка успела вырастить. А вот Федя рано пошёл по кривой дорожке. И в кого только такой горячий уродился?
Драться начал, только ходить научился. Как что не по его — ревёт, аж зубами скрипит от злости, всё вокруг раскидает, ногами топает. Пелагея с ним и лаской, и ремнём. Ничего не помогало. А как подрос — подворовывать начал.
Плакала мать: «В голодные годы ни одного колоска с поля не принесла. Вовек ничего чужого не брала. Был бы отец…». Но отца война проклятая не пощадила.
И понеслось: колония за колонией — для несовершеннолетних, общего, а потом и строгого режима. То кража, то разбой.
А последний срок за убийство дали. Федя решительно отказывался. Никто ему не верил. А мать поверила. К следователю ходила. Тот выслушал: «Вы – мать, я понимаю, но факты говорят об обратном».
— Вот именно, я- мать, чувствую его, знаю. Не убивал он. Ищите.
Но никто не искал. Посадили её Федора на десять лет. С тех пор минуло уже … дай Бог памяти, почти четверть века. «Мать, не убивал я. Ты верь мне. И дождись!»
Просил прощения, сидя за решёткой в зале суда, и вытирал глаза крупной мужицкой ладонью, оставляя рубцы на сердце матери. Вот она и ждала. Разве могла уехать? А от сыночка ни единой весточки.
Сельчане жалели Пелагею: «Поезжай в город. Поживёшь королевой. Уж сколько тебе мучиться? Одна в селе за водой ходишь на другую улицу». Кто посмелее, в глаза говорили, что зря Федьку ждёт – сгинул уж давно где-то. Она не обижалась. Сердцем чувствовала, что живой.
Ждала и верила. Да вот этой зимой стал вдруг во сне приходить. Маленьким. Заберётся к ней на колени: «Мамка, согрей меня. Замёрз я». Обнимет, душа замрёт от счастья и … просыпается. Страх закрался в сердце. Пошла к отцу Михаилу. «Сны – они от лукавого. Не бери в голову. Молись». И весь сказ…
— Киса-киса, Мурочка, — звала Пелагея и, устремив взгляд вдаль, осеклась на полуслове. «Федя», — выдохнула и побежала навстречу.
Платок скинула, седые жидкие волосёнки растрепались. Плюшевый жакет расстегнула на ходу, длинная юбка путается в ногах. Добежала и упала на руки потрёпанного мужика с рюкзаком за плечами. «Сынок!», — обняла, чуть дыша. Торопливый шаг больных старых ног бегом и не назовёшь, но вместе с волнением лишил он Пелагею сил. Поднял Фёдор мать на руки, как ребёнка, и понёс в избу…
Смотрит она на седого, в глубоких морщинах, изнурённого очень пожилого человека с большими заскорузлыми руками в наколках и почерневшими ногтями, и совсем не узнаёт своего Феденьку. А мужчина улыбается, гостинцы, подарки из рюкзака достаёт: «Держи, мать», — и накидывает на плечи большую пуховую шаль и платок Павлово-Посадский из тонкой шерсти в диковинных узорах. Пелагея и так слаба глазами была, а тут от волнения вообще ничего не видит. Да слёзы, что годами копила, так и льются.
— Что ж это я сижу, глупая, — спохватилась и заметалась по избе. К соседям забежала радостью поделиться да попросила баньку затопить — Феденьке помыться.
Соседи рады за Пелагею, но Федьку побаиваются. Вдруг опять за старое возьмётся. В селе спокойно сейчас, калитки от своих не закрывают, а чужие здесь не ходят.
В избе стол накрыла. Еда простая, деревенская. Картошка рассыпчатая с жаренным луком дымится в большой миске посередине стола. Капуста квашенная, огурчики и грибочки солёные. Сало толстое деревенское да графинчик самогонки – чистой, как слеза. Соседка дала, чтобы сыночка встретила честь по чести.
Федя свои гостинцы достаёт: колбаса копчёная, тушенка, сыр диковинный – круглый, что мяч, конфеты в ярких обёртках. Пелагея смотрит, счастью своему не верит. Дождалась своего архаровца, как в сердцах раньше звала.
— Ты надолго, сынок?
— Навсегда, мать. Отгулял я своё.
Хочет Пелагея расспросить, но понимает, что не надо торопить. Хотя и сам кругом виноват, но сердце матери любит и страдает. Чем бедовее, тем пуще за него душа болит.
Утром следующего дня Фёдор всё вокруг избы ходил, присматривался. А к обеду в город уехал. Молчит, говорит мало. Глядит на мать, улыбается.
А Пелагея никак Федьку не узнаёт. Вроде бы он, а вроде и нет. Вот до чего лиходейство да тюрьма человека доводят. Ему лет-то всего чуть более шестидесяти, а старик стариком.
Грузовик стройматериалов привёз. Весь двор завалил. «Дом будем ремонтировать. Забор новый поставим. Негоже в такой халупе доживать. Заживём, как короли», — и радуется.
— Деньги где взял? На ворованные не позволю, — Пелагея встала у крыльца, руки в стороны развела, — гвоздя чужого в дом вбить не дам.
— Что ты, мать, — Фёдор обнял старушку, — вот, смотри. Разволновался, аж руки затряслись, книжку трудовую показывает: «На стройке трудился. Верь мне. Я бы к тебе с ворованным не пришёл. Знал, что погонишь». Пелагея хоть и видит плохо, но разглядела и фамилию, и имя сынка.
— Ну и будет, ремонтируй, — махнула рукой и подивилась, — надо же трудовая книжка …
Так и зажили. Соскучились руки у мужика по домашней работе. Только солнышко встанет, он во двор спешит. Раствор мешает, доски строгает, краску разводит.
Работает ловко, да всё песни напевает. Как-то соскабливал старую краску с дома и кусочек в глаз попал. «Ёкарный бабай!», — зажмурившись, спустился с лестницы, — посмотри, мать».
И опять с песней за работу...
Смотрела на работающего Фёдора и всё глубже осознавала необратимую потерю Пелагея. Леденящим страхом сковало душу и острое неподъёмное, необъяснимое ощущение вдруг навалившегося горя подкашивало ноги. А Фёдор дом покрасил и с фасада, что на улицу смотрит, лебедей нарисовал.
Пелагея обречённо покачала головой и, смахнув слезу, в церковь пошла.
— Батюшка, отслужи заупокойную по моему Феденьке.
— В своём ли уме, Пелагеюшка, — отец Михаил в изумлении поднял брови, — Федя-то твой на всё село стучит, раньше петухов встаёт.
— Чужой он. Федя мой ни песен не пел, ни кисть в руках не держал. А уж если что в глаз бы попало, то не «бабая» вспомнил, а всех чертей с матами собрал.
Заплакала старушка, да горько так: «Сразу его не признала».
— Может лихой человек у тебя живёт? В милицию позвонить?
— Может и лихой. Но ко мне с чистыми помыслами, с добротой. Родной сынок так не почитал. А Федю он знал. Хорошо знал. Всё ведает из самого детства. Я позабыла, а ему известно.
— Может, всё-таки это твой Федя?
— Не мой. Нет Феди на этом свете. Поминай. Только ни одной душе. Считай, исповедалась тебе.
Дома чёрный платок надела. Кофту тёмную.
— Ты чего, мать, в траур обрядилась?
— Шибко пыльно у нас в белом ходить.
Пелагея понимала, что разговор неизбежен, но в глубине души боялась его. Страшно было расстаться с человеком, который хорошо знал её Фёдора. И сердцем чувствовала, что не просто так незваный гость появился в доме.
— Останься, разговор есть, — предложила как-то после обеда.
Фёдор догадался, о чём речь пойдёт. Мурка запрыгнула к нему колени. Не любила рук, а к Фёдору привязалась.
— Кто ты, мил-человек? Как звать тебя? И где сын мой похоронен?
Федя понурил голову, запустил пятерню в волосы, собрал их с силой в кулак, как оторвать хотел, затем вскинул вихры и смело посмотрел на Пелагею:
«Я, мать, друг сына твоего. Вместе разбойничали, в одной колонии срок отбывали, разом решили с прошлым порвать и поехали в Сибирь. Мечтал Фёдор деньги заработать и к тебе приехать чистым и не нищим. Работали за троих, копеечку к копеечке складывали. Мечтал он дом новый построить. Меня с собой звал. Мы с ним, как братья были, да и лицом схожи. А меня тоже Фёдором нарекли».
Пелагея слушала, подперев ладонью щёку, и покачивала головой.
— Чистым, — запало слово в душу, — значит, не до конца пропал. И мать помнил, не совсем отбился в своём лиходействе, — подумала. А вслух упрекнула, не сдержалась: «Долго, однако, вы добирались. То, что чистым домой хотел приехать – хорошо, а деньги и у нас можно было заработать. Голова его бедовая…
Всегда думал наперекосяк. И не успел, не доехал...».
— Надорвался Фёдор. Как понял, что немного ему осталось, — продолжал гость, — придумал поменяться нам документами, жизнями, прошлым. Рассчитались мы с работой, деньги в один мешок сложили и поселились недалеко от Абакана. Вот тогда мне Федя и рассказал всё подробно и о тебе, мать, и о соседях. И всю свою жизнь, как на духу выложил. Там же и похоронил его этой зимой. К тебе долго добирался. Стрёмно было, но слово другу дал, что дом сделаю и тебя до последних дней не брошу… сыном вместо Федьки стану, — Фёдор прямо смотрел Пелагее в глаза.
Встал, засуетился: «Сейчас, только вещи соберу».
— Ты погоди, вещи-то собирать. Скажи, почему в дом родной не поехал?
— А у меня его отродясь не бывало, как и матери.
— Так не бывает. «Отродясь», как раз и была. Бобыль, значит.
— Один как перст на этой земле.
— Что ж я не так сделала? Вот ты пошёл по кривой дорожке – направить было некому, а мой Федя почему?
— Да, нас там – на кривой дороге, разных сословий много. Доля, видать, такая. И тебе, и ему, и мне.
Они надолго замолчали…
— Ну а раз доля такая, иди, сын, продолжай работать. На ужин тесто поставлю. Любишь пирожки-то?
Фёдор подошёл, взяв за плечи, неловко поцеловал в морщинистую щёку.
«Маленькая, худенькая – в чём только такая большая душа помещается?», — подумал и шмыгнул носом. Предательски повлажнели глаза…
— Ты скажи мне, Фёдор мой не был…, — до чего же трудно давался вопрос, мучавший её всю жизнь, — убийцей?
— Нет, мать. Оговорили его. Не свой срок мотал. Грабежом промышляли, но чтобы убивать – такого не было. Да и воровали мы не у бедных.
— Всё едино грех, — но отлегла от сердца боль, что давила тяжелым валуном с тех пор, как вышла из зала суда. Сыну верила, но свидетельские показания внесли сомнение в душу. Оно терзало и не отпускало…
Так и коротали вместе дни старые, побитые жизнью Пелагея с Фёдором – мать и сын. Доживали свой век в тепле и покое в обновлённом доме и поминали архаровца Федьку, чтобы на том свете ему не было холодно от содеянных при жизни гнусных дел.
***
Выкапывать картошку, как обычно, приехал внук. Не удержался, сказал Пелагее: «Значит, когда я предлагал дом отремонтировать, ты отказывалась. Говорила, что не надо тебе».
— А мне и сейчас не надо. Это им – Фёдорам моим потребно...
Внук не понял, но промолчал. А сам подумал:
«Бабка-то совсем стара стала. Заговаривается».

Автор: Людмила Колбасова