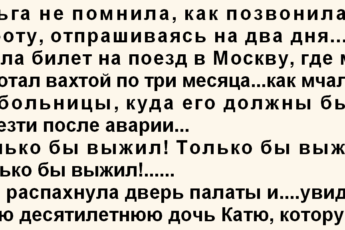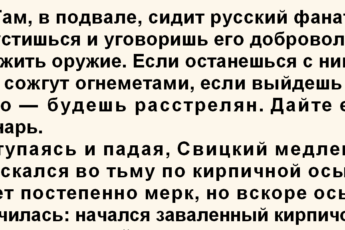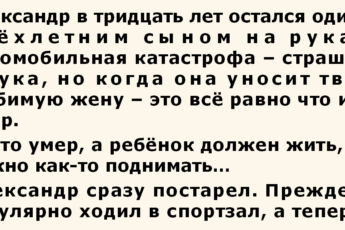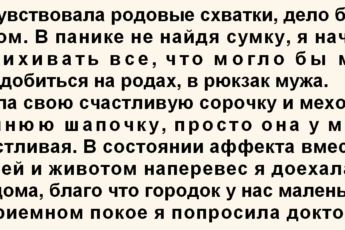Евдокию война застала в Михайловке, свекровь позвала юную невестку отдохнуть перед родами на свежем деревенском воздухе, набраться сил. Да и питание деревенское никак было не сравнить с городским: свежие овощи и фрукты, молоко прямо из-под коровки.
Евдокию долго уговаривать не пришлось, как раз прозвенели в школах последние звонки, распустившие ребятню на летние каникулы, и Евдокия Марковна, учительница младших классов, была полностью свободна до осени. А там и малыш появиться должен был. Девушка была сиротой, мать ее умерла, не дожив до свадьбы дочери, оставаться на лето в городе не хотелось, и Дуня с радостью приняла приглашение свекрови.
В деревню с мужем они приехали за неделю до войны, даже обвыкнуться еще не успели, а тут... Мужа Сашу, лейтенанта запаса, сразу же призвали на фронт.
Дуня навсегда запомнила прощание, то, как плакали они вместе с его матерью на Сашкиной груди, его серьезное лицо, попытки успокоить женщин, обещания вернуться с победой. Запомнила, как гладил он ее большой уже животик и просил позаботиться о сыне. Как, упав в придорожную пыль, горько рыдала и билась свекровь, все повторяя, что сын не вернется, что она чувствует это сердцем...
Как давно это все было, как будто и не с ней. Нет в живых уже свекрови, не перенесла она тягот военного времени и голода, слегла и тихо сгорела еще в сорок втором. Нет больше и мужа ее, Сашеньки, полгода как похоронка на него пришла. Остался лишь сынок, белобрысый Гришка.
Вот с ним-то, босым, одетым лишь в длинную батину рубаху, и стояла Евдокия у калитки, провожая глазами бесконечную колонну пленных немцев, бредущих под конвоем по центральной деревенской улице. Они шли медленно, неловко спотыкаясь, большинство были ранены, многие замотаны в какое-то непонятное тряпье. И у всех опущенные, понурые головы, затравленный взгляд.
Деревенские женщины молча смотрели на них, и в их глазах была ненависть и вся женская скорбь по потерянным мужьям, отцам, братьям, сыновьям.
Несколько отчаянных ребятишек выскочили вперед, побежали вдоль дороги, вздымая пыль, выкрикивая оскорбления. В немцев полетели придорожные камешки. Никто не уклонялся от них, пленные лишь прикрыли головы поднятыми руками и продолжали медленно идти вперед.
И вдруг среди бредущей толпы заключенных Дуня увидела знакомое лицо, и память обрушилась на нее, вернув страшные воспоминания далекого лета сорок первого...
***
Немцы тогда заняли их Михайловку. Деревня сдалась без боя, да и кому было ее защищать? Мужчины все давно были на фронте, а старики, еще способные держать в руках оружие да подростки, при первых вестях о подходе немцев, ушли в леса. Остались в Михайловке лишь женщины да дети. Был конец лета, Дуня тогда была уже на сносях. Страх родить ребенка в такое тяжелое время преследовал ее ежедневно, но что тут было поделать?
Немецкие войска вошли в их деревню чуть ли не с победным маршем. Лощеные, сытые и холеные, они весело переговаривались друг с другом, смеялись, глядя на деревенских жителей. Женщины и дети настороженно смотрели на них из-за прикрытых калиток. А потом начался настоящий ад.
Жителей особо больших домов силой выкидывали на улицу, прямо так, в чем были, вместе с детьми и немощными стариками. На дом свекрови Евдокии, стоявший на отшибе деревни, маленький, в одну комнатку, никто не позарился. Но вот когда немцы пошли ловить кур и уводить скот со дворов, то очередь дошла и до них.
Притихшие, в страхе, сидели обнявшись свекровь и Дуня, пока ловили кур в их небольшом сарайчике. Отчаянно заголосившему Пете явно сразу же скрутили голову. А потом очередь дошла и до коровы Зорьки. Когда стали выводить ее со двора, так жалобно она мычала, что свекровь не выдержала, подхватилась и побежала из дому, а Дуня за нею следом.
— Не отдам! Не отдам, оставьте корову! У нас маленький скоро родится! — выхватывая веревку из рук солдат вопила свекровь. Те поначалу смеялись, пытаясь оттолкнуть пожилую женщину, а потом стали злиться. Один снял с плеча автомат.
— Мама, мама, не надо! Пойдемте, мама! — пыталась оттащить ее Евдокия. Но женщина вцепилась в веревку намертво, упав под ноги Зорьке.
Тогда немец с автоматом, развернулся и с силой ударил Дуню прямо в живот. Она согнулась от непереносимой боли пополам, упала на колени, слезы брызнули из глаз, а дыхание перехватило, по ногам вниз полило горячим.
Понимая, что она теряет ребенка, Дуня завыла в голос. Немец скривился и замахнулся автоматом второй раз, но ударить не успел, — руку его перехватил второй мужчина в форме. Был он немолодым, высоким, нескладным каким-то.
Он стал что-то сердито выговаривать первому, но Дуне было уже не до их споров. Она отчетливо понимала, что помочь ей и новой, нерожденной еще жизни, некому. А значит, пришел ее конец. Она вспоминала маму, ее улыбку, мужа Сашку и то, как целовал ее перед уходом на фронт. Горькие слезы вперемешку с рыданиями рвались из нее наружу.
Но тут сильные руки подхватили ее и потащили куда-то. От резкой боли Дуня потеряла сознание. Очнувшись, она поняла, что лежит в доме свекрови, но почему-то на обеденном столе и без одежды, лишь прикрытая сверху колючим одеялом. Свекровь хлопотала у печи, грея воду в большой кастрюле, рядом лежала стопка полотенец и простыней.
— Что случилось? — едва прохрипела она, в горле пересохло и было оно как наждак.
— Лежи! Лежи, девочка моя! — подскочила к ней свекровь, заставляя лечь обратно на неудобную и жесткую столешницу. — Сейчас доктор Гюнтер придет. Он велел лежать. Насколько я смогла его понять, немецкий-то с вечерней школы только и помню.
— Какой Гюнтер? Я... не понимаю... — Дуня с трудом соображала, боль, невыносимая, пожирающим пламенем сжигала каждую клеточку ее тела. Сил лежать ровно, вытянув ноги, не было. Хотелось перевернуться на бок, свернуться в болезненный комок, подтянув ноги к огромному своему животу.
Но ответить свекровь так и не успела, — дверь хлопнула и в комнату вошел тот самый высокий немолодой немец в очках. Внимательно посмотрев на Дуню, он поставил рядом и открыл большой чемоданчик с инструментами. Затем принялся мыть руки в углу у рукомойника, что-то медленно, повторяя по нескольку раз, втолковывая слова свекрови.
Затем немец подошел к Дуне, наклонился, и стал успокаивающе приговаривать на немецком языке. А потом к лицу девушки прижалась пахнувшая лекарствами тряпка, и Евдокия потеряла сознание. Последнее, что она запомнила, были светло-серые внимательные глаза за стеклами очков.
***
Приходила в себя Дуня очень долго и тяжело. Ее крутило, тошнило и мутило. Адским огнем горел огромный шов сверху вниз через весь живот. Успокаивало лишь одно, — рядом тихо посапывал ее сынок, завернутый в большое полотенце. Живой и здоровый.
Было и еще кое-что, что Дуня осознала не сразу — за стенкой домика в сарае раздавалось, временами, протяжное мычание Зорьки. Единственной коровой останется она потом в Михайловке. Не одну детскую жизнь спасет холодными зимами ее молоко.
Врач Гюнтер еще несколько раз заходил к молодой маме. Внимательно и молча осматривал и так же молча уходил. Или что-то настойчиво повторял свекрови, и тогда уже через несколько часов Дуне приходилось пить отвратительно-горькие отвары трав, приготовленные свекровью по советам врача. Несколько раз до девушки доносились звуки какой-то грустной, протяжной песенки, исполняемой толи на жалейке, толи на губной гармонике.
— Это Гюнтер играет, — рассказала как-то свекровь. — У него дочь на тебя похожа, вот и помог, не смог пройти мимо.
— Откуда вы знаете, мама? — удивилась тогда Дуня.
— Ну, как откуда? Так сам и сказал, — смутилась свекровь. — Я много-то с ним не говорила, враг он нам в любом случае. А так, промежду прочим, и рассказал. Я всего не поняла, немецкий-то давно учила. Но войны он не любит и не одобряет. Но есть долг. Он так и сказал — Долг! А дома дочка беременная, сынок маленький еще остались. Жена-то его померла...
Свекровь вздохнула, смахнула слезу, и отвернулась, отправившись менять пеленки маленькому Гришеньке. Сама же Дуня лежала долго, потом так же долго училась заново ходить. А когда смогла выйти наконец-то во двор, то доктор Гюнтер уже ушел вместе со своей частью в сторону Москвы. Евдокия была уверена, что больше его она не увидит, но вот судьба распорядилась иначе.
***
Пленные расположились недалеко, за околицей деревни. Бежать им было некуда, и они, голодные и измученные, робко пытались выпросить у деревенских хоть немного еды. Фраза на ломаном русском «кура, млеко, яйки» звучала теперь совсем иначе — жалостливо, просительно. Жадно протянутые, дрожащие руки немецких пленных у одних вызывали раздражение и злость, а у других... да, нашлись женщины, которые сунули в протянутые руки немного еды.
Удивительное создание — русская женщина. Ее судьба бьет, гнет в «бараний рог», отнимает счастье и родных людей. А она все равно сохраняет в груди сердце человеческое, способное на сочувствие. Душу чистую, жалостливую. Нет, никогда не простят они немцам проклятым смерть своих мужей и сыновей, никогда!
Но смотреть на то, как человек живой страдает, мучается, женщина просто не способна. И вкладывались в дрожащие грязные ладони немецких пленных жалкие подачки, малые крохи, что решились оторвать женщины Михайловки от своей семьи да малых детей.
Вот и Евдокия... столько испытала, столько потеряла. Никогда не увидит она мужа, а маленький Гришка отца. Никогда муж Сашка не увидит сына своего, не придет, не обнимет. Лишь треугольник похоронки расскажет сыну, где и как погиб его отец.
Но сердце доброе да благодарность к Гюнтеру, что сына и ее спас, не давало покоя. Чувство долга не позволяло забыть печальный взгляд серых глаз пожилого немецкого врача.
***
Евдокия собрала по дому все, что смогла найти: четыре вареных картофелины, пару луковиц, краюху хлеба из ржаной муки да свекольного жмыха. Подумала минуту и налила крынку коровьего молока. Завязала все это добро в старый свекровкин платок да пошла за околицу.
Гюнтер по деревне не ходил и еду у местных не выпрашивал. Он сидел, сгорбившись, и играл на гармошке. Печальные звуки простой детской песенки разносились вокруг. Евдокия подошла, придерживая босого Гришку за руку, остановилась неподалеку, ждала, когда немецкий доктор обратит на нее внимание. Он прекратил играть, обернулся и долго разглядывал Дуню, узнавая.
Девушка подошла и положила перед ним узелок с едой. Гюнтер развернул платок и увидев крынку, вопросительно посмотрел на Дуню. Та молча кивнула в ответ, подтверждая, что молоко от той самой коровы, оставленной им в сорок первом.
Уже собираясь уйти, Евдокия увидела, как дрожащими руками немец перебирает еду. Она испытывала какой-то внутренний необъяснимый покой. Она больше ничего не должна, она вернула долг!
***
Они уже почти дошли до дома, как Дуня услышала позади торопливые шаги, обернулась, вздрогнула, — их стремительно догонял Гюнтер. Подойдя, он опустился перед Гришкой на колени прямо в пыль, взял малыша за плечи и долго вглядывался в курносое конопатое лицо. Затем протянул руку и вложил в детскую ладошку губную гармошку, встал и не оборачиваясь ушел прочь. Дуня и Гришка долго смотрели ему вслед...

Автор: Анастасия Флейм