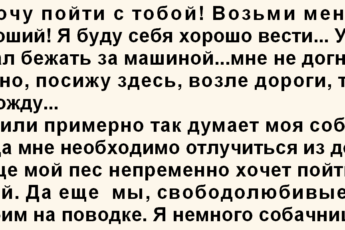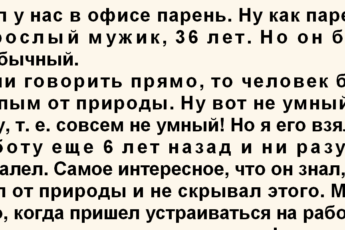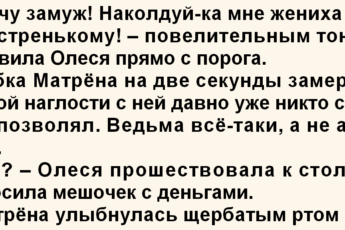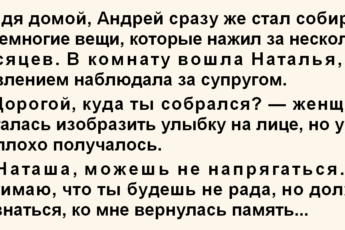В день Победы братья всегда собираются вместе. Вот и на сей раз съехались они в дом старшего.
Все трое воевали на разных фронтах и почти ничего не знали друг о друге до конца войны.
Старший был контужен, средний—ранен, а Ивана, младшего, после третьего ранения в двадцать шесть лет комиссовали вчистую. Правое плечо у него стало ниже левого, с одного бока удалили три раздробленных ребра да левую руку укоротили почти на ладонь. Пришел домой седым, едва родная мать узнала, дважды похоронки на него получала, уж и не чаяла увидеть. Но все же повезло ему, живой вернулся.
Дважды горел его танк. Но и в третий раз обманулась смерть, выбросило его взрывом. Ему и сейчас до мелких подробностей помнится тот давний и страшный бой, последний бой. Может, рассказать братьям, как было? Да разве сумеет о том рассказать? И молчит Иван.
— Иван, Иван! Бери правее, правее! — Кричал ему тогда командир.
— «Зря правее, не надо бы...— ругнулся Иван, дернув на себя до отказа рычаг управления.
— Не успеем, пристрельным огнем они нас сейчас же накроют... Проскочить бы еще метров двести, чтобы уйти из зоны вражеского огня. Остается молиться и...»
Иван тянет руку к тяжелому молотку, отбивает на всякий случай бобышки. Вдруг пригодится? Увидев, как загорелся фашистский танк, успел подумать: «мы подбили» и...
И ничего не стало. Даже темноты. Может, в эти мгновения его, Ивана, вообще не было на Земле? Может, улетела душа его да спохватилась в конце пути и вернулась в молодое еще тело.
Очнулся. Сквозь шум в ушах, в голове услышал отдаленный грохот боя, а, может, это ему казалось, может, бой шел рядом? Изредка, словно тени, пробегали солдаты, иногда, натыкаясь на него, перепрыгивали...
Лежал он на зернистом мартовском снегу в поле, изборожденном черными следами-ранами танков, орудий, людей. Метрах в двадцати от него догорал танк, его танк.
Атака прошла. Кое-где курились воронки от снарядов, то там, то здесь приподнимался раненый, на опушке ближнего леса каркало воронье.
В нескольких шагах виднелся припорошенный, неподвижный человек. «Может, командир, надо бы помочь...» — мелькнула ленивая заторможенная мысль, Иван попытался сдвинуться с места, но понял, что в его теле что-то сломалось, и ему не пошевелиться. Он прикрыл глаза. Сколько так лежал, счет времени потерял.
Услышал скрип снега и голоса. Хрустнули смерзшиеся ресницы, и сквозь белую пелену он увидел санитаров. Они начали свой печальный обход. До Ивана им было еще далеко. Лежал он, чуть ли не на середине поля, да и дойдут ли?
Он не чувствовал ни боли, ни холода, будто тело было не его, и только мозг словно просветлился, как льдинка на морозе. Боль ушла. В голове было ясно. Небо над головой серое и мглистое, сыпал снежок.
Как мираж появились вдруг на небе картинки из далекого теперь детства, юности... Сибирская деревня, где он родился и вырос вместе с тремя братьями, мать, отца он не помнил, тот рано умер, школа, где он закончил семь классов. Потом пошел учиться на тракториста...
А перед армией загулял. После вечерней смены, едва умывшись и, наскоро чего-нибудь перехватив, бежал в клуб, чтобы увести оттуда Аннушку. Неделю гуляли они по всей ночи. Все поля обошли, у всех озер в округе посидели.
А на вторую неделю мать сказала ему: «Хватит, сынок, погулял. Женись». И женился. А еще через несколько дней забрали его в армию.
Служил он на западной границе, уж вышел ему срок службы, и вернуться бы ему осенью домой, да грянула война. И к тем трем годам разлуки потекли один к одному военные годочки.
Лежал он на поле и думал, что скоро семь лет, как не был он дома. Лишь короткие письма матери, нацарапанные «химическим» карандашом на тетрадном листке. И такие же короткие от Анны—да и писала она редко. Он попытался представить себе жену, и сколько ни силился, никак не мог вспомнить ее лица.
Перед глазами где-то в отдалении шла легкая и молодая женщина, совсем не волновавшая его, никакая, ничейная; только вот запахом сена и молока будто опахнуло и пропало, улетучилось все в морозном мартовском просторе...
Дважды был он тяжело ранен, но молодость и жизненная сила делали свое дело, выздоравливал. Так уж случилось, что домой ему даже после госпиталей попасть не удавалось, ехать надо было через всю страну, времени было мало, да и дивизия уходила все дальше на запад, а он рвался вслед, догоняя своих фронтовых друзей.
Иван прикрыл глаза, ресницы совсем слиплись от подтаявшего снега, густо повалившего в сумерках.
— Слушай, темно уж да и снег лепит, может, до утра оставим? — Сказал один из санитаров другому. — Все одно живых нет, кто был, тех подобрали.
— Нет уж, Семен, давай еще середку пройдем и по правому краю вернемся, чтобы на сердце спокойно было. Не хочу греха на душу брать, ежли кто в поле останется по нашей вине... Вишь, еще один, а ты... Да и живой вроде? — Он склонился над Иваном, приговаривая, — ишь ты, как ресницы-то закуржавели и снегом почти всего завалило...— Они положили Ивана на носилки и пошли, проваливаясь в заиндевелом насте. А снег валил все гуще, будто зализывал на земле раны.
«Долго жить будешь», — сказали ему в госпитале и после лечения комиссовали.
Не подвело материнское сердце, вернулся ее Ванюшка, ее младшенький. Дождалась.
Не дождалась только жена. Восемь дней, как не дождалась.
Ушла Анна в дом старого бригадира, овдовевшего перед тем, на пятерых сирот ушла. Любила ли? Скорее сирот пожалела. А узнала, что Иван вернулся, пала в горнице на постель и заревела в голос, прибежала соседка, стала водой отпаивать да уговаривать: «Да ты не стонай, не рвись, а пойди да в ноги пади ему, с кем не бывает, ты ведь почти восемь лет ждала его... Может и простит».
Только не захотел говорить с ней Иван, когда пришла она к нему просить прощения. Да и надо ли было прощать? Было ли за что прощать? Чужие они стали за годы разлуки.
И начал Иван вторую, послевоенную жизнь. Все ему было внове, отвык от всего. И трактор, за который не надо было бояться, что он вдруг подорвется на мине или снаряд в него попадет, и за девушками ухаживать, не надо спешить. И он выбирал, не спешил. Подросли молодые, красивые, веселые. А женился... чуть ли не на своей одногодке... До войны и не замечал Марии, а тут...
Глаза ее, словно бесенята, так и дразнят, так и зовут, он и пошел вслед за ней, да так и остался рядом.
Много баб молодых и девок в деревне пытались «окрутить» Ивана, да не выходило. Однажды поддался было соблазну, когда пошли по деревне разговоры, что припоила, приворожила да приколдовала его к себе Марья. Потому, мол, он и уйти от нее не сможет, даже если и захочет.
Стали ему всюду про это твердить, не можешь, мол, и он взбрыкнул. «Я, да не смогу, всю войну прошел, не то смог, а тут от бабы отвязаться не смогу?» — Ушел к Дашке Пискуновой, прожил неделю, другую, а на третью встретил на току Марью, сердце, будто варом обварило, а виду не подал.
Хотел было мимо пройти, а она глянула на него так добро, так ласково, так зовуще, будто ничего промеж ними и не случилось и спрашивает: «Ну как, Ванюшка, поживаешь? Говорят, жену добрую нашел? А, может, по старой памяти в гости заглянешь?»
— Не глядя, пробормотал: «Отчего ж не зайти, зайду». В тот же вечер вернулся и уходить уж больше не пытался. А когда говорили, что «окрутила» тебя ведьма, околдовала, только посмеивался, разводя руками: «Куда, мол, денешься?»
Когда собираются братья вместе, хватает им рассказов и воспоминаний до поздней ночи, пока усталость и перцовка не сделают своего дела.
Иван говорит мало. Сидит и слушает своих братьев и только изредка, когда один из них замолкает, он вдруг взмахивает своей короткой рукой.
— А што, братки, споем?
И хрипловатым, едва слышным голосом, вернее у него совсем нет голоса, запевает:
«...Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой...» — и каждый раз добавляет —«четыре», «четыре», сбиваясь с ритма, но поет дальше, до конца.
Его поредевший седой чуб прилип к вискам, на глазах взблескивают слезы. В такие минуты память возвращает ему имена погибших друзей: Иван Пастухов, сгорел в танке под Курском, а его самого выбросило тогда взрывом; Василий Семенов, того разметало прямым попаданием под какой-то польской деревушкой, а Саню Мартынова убил немецкий снайпер, когда тот открыл люк башни.
Иван с трудом выдавливает из себя звуки, будто подчиняясь долгу, что это надо не только ему, и поет упрямо, поет до конца. Потом опять надолго замолкает. А в очередную паузу между разговором, поглубже вдохнув и, набрав как можно больше воздуха в свои рубцеватые легкие, он с каким-то замедленным «и-и-их!» — начинает тихо, будто для себя, любимые припевки:
«...У матани кудри вьются...»
Братья терпеливо слушают, не перебивая, но и не помогая.
Наконец, Иван совсем выдыхается, но допевает все же до конца и снова надолго замолкает. И тогда братья продолжают прерванный разговор о прошлых боях, о детях, о международном положении... Иван слушает, кивая головой, не вмешивается, не рассказывает о себе. Он побаивается за себя, вдруг разрыдается, нервишки-то ни к черту стали, стыдно будет перед братьями, да и говорить он не умеет так хорошо, как они, потому и молчит.
Братья у него ученые: один — бухгалтер, другой — подполковник в отставке. Оба на заслуженном отдыхе. А он? И он получает колхозную пенсию. Но слесари и трактористы по-прежнему нужны колхозу, и он — работает.
Так надо!

Автор: Лидия Арефьева