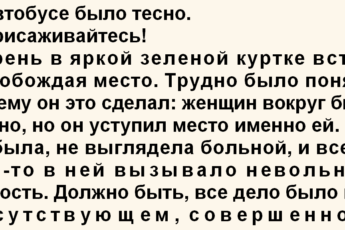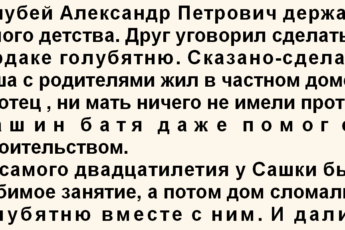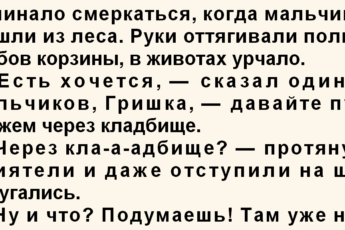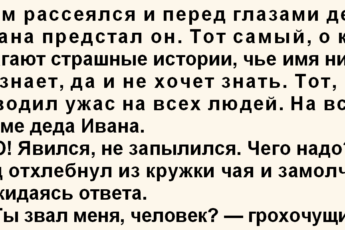— А ты здорово изменился, — Лена затушила сигарету в пепельнице и откинулась на подушку.
— Что, кричать стал по ночам? – Что я изменился, я и сам заметил – многие вещи видятся мне теперь совсем иначе.
Лена, как медвежонок, повертелась и повернулась ко мне:
— Ну, во-первых, кричишь ты по ночам или нет, я раньше не знала… А во-вторых, – она принялась выводить пальцем на моей груди какие-то буквы, — во-вторых… Когда ты уходил в армию, бабушка мне сказала: «Запомни его. Больше таким ты его никогда не увидишь». Я тогда не поняла ничего. А сейчас вижу: ты – другой. Мой – но немножко другой.
И она поцеловала мой сосок.
Господи, как я мечтал об этом, особенно последних пару недель! И об этом пальчике, выписывающем на моей груди, кажется, слово ЛЕНА, и об этой выглянувшей круглой коленке, и о тёплом женском теле, и просто о том, что можно спокойно лежать на чистой простыне, пусть и немного сбившейся…
— Знаешь, а там, в командировке…
— Где? – перебила она меня.
— В командировке. У нас это так называлось. Раньше я думал, что командировка – это когда едешь в другой город, на завод какой-нибудь, ну… станки, к примеру, налаживать или договоры подписывать… А, оказывается, можно командировать и на войну. Так вот. Там я не верил, что вернусь. Точнее, был уверен, что не вернусь.
Лена оставила в покое мою грудь и, привстав на локте, внимательно посмотрела на меня.
— Вот знаешь там, — продолжал я, — что есть ты, мама, бабушка, но вы живёте как бы в другом мире. Да, приходили письма, да, я как-то даже дозвонился до вас, но я всегда знал, что к вам не вернусь. Хотя мечтал об этом каждую минуту. И даже на броне писал: «Хочу домой». Комбат заставлял меня смывать. А на следующий день надпись появлялась снова…
Я потянулся за сигаретами.
Лена поставила пепельницу мне на живот, а сама села у меня в ногах, аккуратно прикрывшись простынёю, и приготовилась слушать.
…Конечно, там мы говорили и «о бабах» тоже — а как же без этого в мужском коллективе. И я вынес, что самая лучшая женщина та, которая тебя понимает. И мне так захотелось выговориться, поделиться с нею о моей войне, которую почему-то называли «командировкой».
И я провёл пальцем по её голой тёплой коленке…
…А там, когда ты всю ночь лежишь в засаде, а холод зверский… Когда пальцы леденеют до такой степени, что тебе кажется: если пошевелить ими – они разлетятся на кусочки, словно сосульки. И ты тупеешь от боли. Но это ещё ерунда. А потом рано утром возвращаешься в отряд и протягиваешь руки к горячей печке. И три тысячи иголок впиваются в каждый палец. И боль такая, что хочется орать и вылезать из собственной шкуры. И ещё хочется выть. Выть, потому что в следующую ночь тебе опять в засаду. Если, конечно, ты до этой ночи доживёшь…
На войне на второй-третий день боевых действий чувства атрофируются. И ты уже не столько человек, сколько машина. У которой две программы. Убить, чтобы выжить. И выжить, чтобы убивать.
Ты не пригибаешься, когда над головой звенят пули. А сначала пригибался. А потом произошла перезагрузка, и ты понимаешь: если пулю слышишь – значит, она не твоя. А вокруг тебя столько железа свистит, звенит и взрывается, что сам удивляешься, как жив до сих пор. И просто ищешь, где сидит «этот урод» и стреляешь в ответку.
…Вы ночью идёте по лесу, и ты понимаешь, что здесь могут быть мины. И тебе по фигу, потому что ты ничего изменить не можешь. И если кто-то зацепит растяжку – выкосит половину группы. А тебе пофиг. Выкосит так выкосит. Значит, судьба такая. И ты идёшь дальше.
А твой лучший друг однажды не дошёл. И ты смотришь на его труп, а в голове только одна мысль: «Повезло Серёге, он уже отмучился»…
…Ты берёшь в прицел человека. Ты о нём ничего не знаешь. Тебе неважно, кто он такой. Просто командир сказал валить всех, кто пойдёт оттуда. И ты даже наблюдаешь за ним какое-то время. А потом плавно тянешь курок на себя. И ты ещё смотришь, как человек падает, дёргается, пытается встать, а потом замирает. И у тебя никаких чувств. Ты солдат. И у тебя приказ – валить всех. Ты — машина, которая должна убивать. Убивать, чтобы самому выжить. И плевать, с автоматом шёл тот человек или нет. У тебя приказ. Ты думаешь только: «Один готов»…
Там – другой мир.
…Я захожу в дом, где уже неделю лежат трупы. Вонища такая, что дышать невозможно. На гражданке я бы точно блеванул. А там стоял спокойно. И мне, помню, так хотелось жрать, что я даже подумал: «Будь в этом доме еда, я бы сел прямо на труп и всё бы сожрал»…
На войне человеческие чувства тупеют. И остаются только желания. Главные – поесть, поспать и порой отдохнуть.
И не надо никаких деликатесов. Самое вкусное, что я там ел – это сало. Я тогда ночью пришёл с задания. Мне оставили полбуханки чёрствого хлеба и кусок сала, грамм на двести. И вот я сидел в углу и всё его облизывал… Ничего вкуснее этого сала я в жизни не ел.
…Как-то мы с пацанами вернулись с разведки, и – за своей пайкой. А из палатки АХЧ выходит прапор, толстый, как боров, держит в руках бутерброд с колбасой и говорит, что ужина не будет, потому что жрачка кончилась. И бутерброд свой, пидор, откусывает. А я стою и жалею, что взводный оружие заставил сдать перед тем, как в АХЧ идти – пристрелил бы эту сволочь жирную и глазом бы не моргнул. Смотрю на пацанов, а в их глазах вижу то же самое…
Всякое бывало.
А ещё, помню, очень хотелось спать. Вот сейчас лежу на свежей простыне, курю, и сна ни в одном глазу. А там – лишь бы добраться до спальника. Залезть туда и отрубиться минуток на 300. И будешь ты самым счастливым человеком на Земле. Хотя бы на 300… А больше пяти часов тебе никто поспать и не даст. Как говорил комбат: «Лучше недоспать здесь, чем после смерти отсыпаться».
А утром смотришь на свой спальник и не знаешь, вернёшься ли к нему вечером или нет. Потому что накануне разведчики угодили в засаду. Их так и вытаскивали из леса – в их же спальниках. И ты понимаешь: всё, что было на гражданке –это другой мир, другая жизнь. Там даже точки отсчёта другие: родился, крестился, женился. А здесь, на войне, вся жизнь – от спальника до спальника: утром из него вылез и, дай Бог, что б вечером лёг обратно сам, а не тебя в него упаковали…
Всякое бывало.
…Дождь лупит всю неделю, а у меня берцы каши просят. Первых пару дней старался как-то защитить ноги, подсушивал носки на привалах. А потом – как отрубило. И вот иду по колено в грязи, а мысли: да хотя бы скорей ноги гнить начали. С гнилыми ногами – сразу в госпиталь. А там хорошо – там не стреляют.
…И возвращаюсь с похода. И всю ночь – страшный жар. До бреда. И утром иду к санинструктору. А он говорит, что аспирин кончился ещё позавчера. А напротив сидит Колян со второго взвода. Сидит и лыбится. Его ранили в руку. Ему больно, очень больно. Но он улыбается. Потому что для него война окончена. Его теперь точно отправят в госпиталь. А там хорошо – там не стреляют. А на гражданке с таким ранением работу запросто найти можно. И я его понимаю и даже завидую немножко.
И тут кто-то забегает в палатку и кричит, что поднимают дежурную группу: наши попали в засаду, и надо их вытаскивать. И я выскакиваю и бегу вооружаться. А ротный матерится и орёт, что бы я оставался на базе. Я оборачиваюсь и вижу, что следом бежит Колян. Ну а он-то куда??? И я полетел, вместе со всеми, спасать своих пацанов. А иначе нельзя. И чёрт его знает: то ли это программа такая, то ли сам себя потом уважать не будешь…
Но порой программа даёт сбой. И у тебя нет сил идти дальше. И ты проклинаешь и эти дырявые берцы, и бронник, и «разгрузку», и долбанные 14 с половиной килограмм рации за спиной. И ты валишься на землю. И думаешь: дайте мне отдохнуть. Хоть полчаса. Хотя бы двадцать минуточек! Хоть десять!!! А если не дадите – то лучше пристрелите меня. Прямо здесь. Как бешеную собаку. Но подходит командир и говорит: «Понимаю, что пи3дить тебя бесполезно. Потерпи, всем тяжело». И берёт рацию. И несёт её сам. А я лежу и думаю: сука, ну зачем он меня так, перед пацанами? А потом понимаю, что он совсем не обязан тащить мою рацию. И уважаю его ещё больше. И через три минуты догоняю командира и забираю рацию обратно. И иду дальше. Потому что тяжело всем…
Конечно, спасали письма из дома. Чтобы не стать придатком к автомату. И ещё смех. Чтобы не оскотиниться.
…Сидим мы как-то на аэродроме, ждём посадки в «вертушку». А мимо проходит женщина из медбата. И вот я провожаю её глазами и так хочу, что бы она обернулась, что б посмотрела на меня, такого молодого, ещё живого, потому что, может, я женщину вообще никогда больше не увижу… И отворачиваюсь, чтобы глаза вытереть… И вижу, что пацаны делают то же самое…
А вечером от Лены пришло письмо. И писала она, что, похоже, нашёл я здесь какую-нибудь санитарочку, потому, мол, и пишу ей так редко. И было это письмо такое чисто женское, с такой далёкой планеты, что я ржал полвечера.
А та женщина на аэродроме так и не обернулась…
А иногда в программу заползает вирус…
И ты сидишь в засаде и думаешь, что убивать – это не по-людски. Не по-божески как-то. И вспоминаешь всё горе, что принёс в этот мир. И все беды, что наворотили твои товарищи по оружию. И всё зло, что пришло от твоих врагов. А от тебя самого зла было столько, что никакими молитвами, никакими походами в церковь тебе его не отмолить. И ты сидишь и наматываешь на кулак слёзы и сопли. А потом понимаешь: чтоб дожить до этих походов в церковь, тебе нужно выжить здесь. И ты вытираешь сопли. И успокаиваешься. И программа блокирует вирус. И ты лежишь и ждёшь, когда кто-нибудь пойдёт «с той стороны». У тебя приказ, командир сказал валить всех. И кому-то «оттуда» сегодня точно не повезёт – он окажется не в том месте и не в то время.
А они сами виноваты – не надо было начинать эту войну.
…А потом, когда до конца командировки осталось три недели, я вдруг понял, что могу вернуться домой живым. Раньше я не верил, что вернусь. Точнее, знал, что не вернусь. А тут… И эти три недели — самое страшное время. Мне было страшно ходить на задания. Страшнее, чем в самый первый раз. Потому что машина войны меня потихоньку отпускала. И в мыслях я всё чаще переходил на мирные рельсы. А война продолжалась.
Я видел пацанов, которых убили именно в последние две-три недели до дембеля…
Я не знаю, когда эта командировка для меня закончится. И даже сейчас, лёжа на кровати и глядя на Лену, я всё ещё там. Я уже здесь, но часть меня – всё ещё там.
Я затушил в пепельнице окурок и подумал: Богу – богово, а женщине – женское. И ей совсем не обязательно знать, через какую грязь и кровь я прошёл. И я сказал Лене:
— Знаешь, какой день в этой командировке для меня самый главный? Когда я зашёл в свой подъезд, подошёл к двери, и – стою, как дурак. Неужто всё так просто? Нажимаешь на звонок, заходишь в дом, а там – нет войны. И тут распахивается дверь, а на пороге – ты!
— Ага, — Лена быстренько перебралась под мой бочок, задев по пути меня своей грудью. – А я стою такая обалдевшая: ты? не ты? А потом ка-а-ак прыгну на тебя!
— Ага! Чуть с ног не свалила. – И мы оба рассмеялись.
…А потом я лежал, обессиленный, выжатый весь, до последней капли, но счастливый и довольный, как мартовский кот.
— Господи, сколько ж ты пережил-то там? Бедненький…
Я скосил глаза на Лену. Она спала. Спала и во сне разговаривала.
— Но мы же теперь вместе, да?
Я ничего не ответил. Просто улыбнулся и укрыл одеялом её плечико.
*****
P.S. С тех пор прошло уже 19 лет. У нас с Леной два сына, два лба здоровых.
И я всё чаще думаю о том, что скоро им в армию.
...А командировки на Земле всё никак не заканчиваются…

Автор: Олег Виноградов