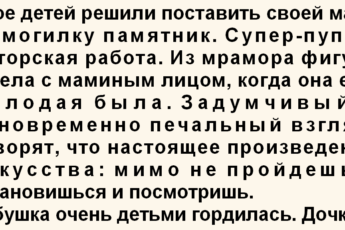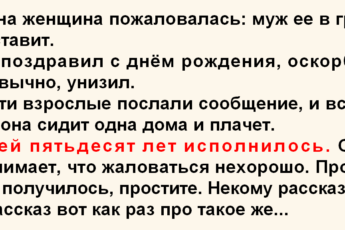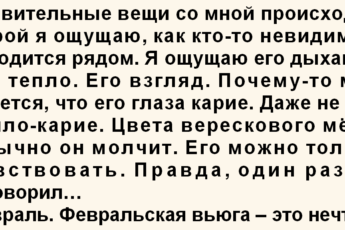Сколько я себя помню – я всегда знала, что мой папа татарин.
За всю жизнь по-татарски я выучила всего одно слово – к ы н д ы к, что означало «пупок».
«Кындык!» – склонялся папа над моим пухлым младенческим тельцем и, нажимая на пупок, запускал механизм нестираемой насечки в моем сознании – мой папа особенный, а, значит, особенная и я.
Кындык этот в моей памяти был символическим центром сосредоточения ожесточенных боев, которые все мое детство вели за меня два фронта. Первый фронт – ленинградская интеллигенция, возглавляемая плеядой нафталиновых бабушек и тетушек моей матери. Второй – глубокая татарская деревня моего отца, которая, в силу своей удаленности от Ленинграда, бои вела редкие и точечные, но победы меж тем одерживала масштабные и сокрушительные.
Вдобавок ко всему, каждое лето линия фронта географически отодвигалась в сторону мощного союзника – московской бабушки, матери моей мамы.
Бабушка давно покинула лоно ленинградской семьи – сбежала в столицу. Мне кажется, побег произошёл по той же самой причине, которая по сей день заставляет и меня бежать от себя – изнеможение от попыток соответствия званию семьи высокой культуры быта на Ленинградском фронте.
Московская бабушка была крупной, румяной, любила петь, громко смеяться, лузгать семечки и мужчин. Что никак нельзя было постыдно прикрыть крахмальной салфеткой ее утонченной матери или тетушки с Васильевского острова.
Чтобы на этот самый Васильевский остров, упаси Боже, не прийти умирать, после смерти мужа, холеного красавца-летчика, бабушка вышла замуж за такого же, как и она, крупного и румяного слесаря подмосковного завода. С коим и пролузгала семечки, до того самого дня, когда ее громкий смех навеки не приглушил инсульт.
***
Лето в Москве – яркое воспоминание детства.
Вот я, вся пропахшая поездом и романтикой московских электричек, врываюсь в летнюю ссылку бабушкиной квартиры и уже через две минуты, после строгих и непременных «пришла с улицы, сразу мыть руки!», обшариваю взглядом старомодную лакированную стенку из 60-х, радостно здороваясь с маленькими реликвиями детства.
Вот вечно пахнущая деревом шкатулка – я знаю, в ней внутри янтарная брошь с тяжёлыми бронзовыми подвесками. Так хочется выломать ее из оправы, чтобы получше рассмотреть, что же скрывается в абрикосовом нутре – жук или это просто листочек?
Вот статуэтка грациозной балерины, пройдёт 30 лет, и я узнаю, что это маленькое состояние.
Вот, конечно же, строго по центру серванта, моя фотография за стеклом: лукавый взгляд ещё неотесанной советским школьным режимом первоклассницы – коричневая гофра на груди и беспечно взлетающие вверх крылья белого передника. Рядом понуро ютятся фотографии помельче – внуки румяного слесаря – вечно проигрывающие участники гонки на пьедестале моей славы.
А вот самая заветная вещь – дедушкина папиросница. Крутишь маленький ключик внизу, тянешь на себя корешок «книжки», и под волшебную музыку втягиваешь в себя сладкий запах дедушкиного табака. Мой дедушка-летчик – он необыкновенный. И все вещи его тоже вот такие же – необыкновенные. Как я скучала!
Сзади, вытирая руки о передник, возникает бабушка. Короткий поцелуй в пыльную летнюю макушку – печать немого обожания и любви. «За стол, сейчас пообедаем и пойдём в сквер!»
Моя бабушка – иная. Всецело иная, чем мое строгое интеллигентное детство в хмурой культурной столице.
Бабушка, проживающая каждое лето только для меня. Фея, исполняющая любые желания. В Москве я на целых три месяца превращалась из Алены в Алешкина. Так называла меня бабушка, в честь своего первого мужа, Алексея. Судя по неизменно грустной и нежной тональности, с которой она произносила это имя, первый муж был и остался самым любимым.
Огромная недостижимая кукла в ларьке Союзпечати? Твоя – держи, Алёшкин!
Любишь купаться? Необъятный таз на балконе девятиэтажки – ныряй, Алёшкин!
Таз был огромный и белоснежный. Такой огромный и такой белоснежный, что словами не описать. Поэтому на товарном знаке шестидесятого года на задней поверхности таза было написано просто – “Таз эмалированный, хозяйственный”.
Покуда я беззаботно плескалась под раскаленной крышей летней лоджии, бабушка в сотый раз пересказывала мне биографию таза.
Первое время таз жил в военном городке, потому как бабушкин муж, мой дедушка, был, как уже упоминалось, летчиком.
Каким же незаменимым был тогда таз! Летом в тазу замачивали огурцы, в родниковой воде – чтоб хрустели. А еще в тазу чистили грибы. Бабушка и дедушка, молодые и веселые, приходили из лесу и прямо в сапогах и с корзинками усаживались во дворе, за деревянный стол – грибы считать, у кого больше. Грибами у них назывались только белые и подосиновики. Остальные – так... Не грибы. Баловство одно.
«Сто один, сто два, сто три...» – считал дедушка, доставая грибы из своей корзинки, и косил глазом на бабушку, не собрала ли она больше?
«Девяносто два, девяносто три...» – считала бабушка и кидала грибы в таз.
Таз, стоя на деревянной табуретке, лукаво посмеивался белоснежной эмалированной улыбкой, словно тоже принимал участие в этой грибной олимпиаде.
Зимой в тазу мыли мою маму – поливали из ковшичка на кухне. На коммунальной, естественно.
После смерти дедушки таз переехал в отдельную квартиру, в Москву, точнее на самую ее окраину. Первый раз в жизни таз ехал в поезде. Бабушка спала на верхней полке. Таз спал на самой верхней – багажной. Всю ночь на столике ругливо бренчали стаканы в металлических подстаканниках. Бренчал и таз на своей багажной полке, недоуменно и вопросительно – куда его везут? Зачем?
Бренчал и недоумевал таз не зря. По приезде в Москву, таз задвинули под ванну – за ненадобностью. Грибы в Москве никто не собирал. Маму мою больше в тазу не мыли – она туда просто не вмещалась, выросла уже. Да и просто – предпочитала мыться в ванной. Огурцы в тазу больше никто не замачивал – в тазу от старости откололась эмаль, а это, как известно вредно для пищи.
К счастью, через много лет у бабушки появилась я, и тазу предоставили ещё один шанс доказать свою эмалированную незаменимость.
Ярче всех московских воспоминаний – вечерний просмотр телевизора под семечки. На полу расстилается газета. На столе – алюминиевая миска, в которой ещё утром меня бархатными бочками приветствовали персики с рынка, с другого конца города. Ты же любишь персики, Алешкин?
И бабушка. С широко расставленными ногами – от жары и от собственного величия. Лето в Москве почему-то все время жаркое и бабушка почему-то все время великая. Лузгает семечки из миски и смачно плюет их на газету. Взгляд упёрт в телевизор.
Мой внутренний взгляд упёрт в мои детские страхи. Семечки есть нельзя. Меня увезут на скорой с аппендицитом. И, наверное, не успеют. И потом повезут в грузовике по этой недоМоскве. Как принято тут возить всех туда, где давно покоится мой дедушка. Как же я люблю тайком, прижав нос к стеклу лоджии, жадно смотреть на эти шествия, останавливающие движение в городе и кровь в жилах.
И я ем. Ем эти семечки. И плюю шелуху на газету. Выплевываю все свои ленинградские страхи. Я смотрю на бабушку. Она весела и монументальна. И нет аппендицита. И нет страхов. Просто детство...
***
Из Москвы я возвращалась такая же крупная и румяная, как бабушка со своим новым слесарем, словно это было заразно и передавалось воздушно-персиковым путем.
Ленинградская прабабушка, встретив меня на Московском вокзале, удовлетворенно кивала – позиции русского фронта за лето были прочно укреплены.
Осенне-зимняя контрзащита выстоит.
Но вечером с работы возвращался папа, шутливо нажимал на мой пупок, и – к ы н д ы к – генетический тумблер победно переключался обратно.
***
Помню ли я, когда началось это великое межнациональное противостояние в моей семье?
Помню, что прабабушка Валя была особо ревнивой блюстительницей интеллигентских устоев в нашей семье.
Прабабушка была протестанткой. А ее отец, Михаил – пресвитером протестантской церкви. Одна из прививок дореволюционного детства, позволившая впоследствии всей семье не заразиться бешенством советской власти.
На прикроватной тумбочке прабабушки всегда лежала открытка с изображением кудрявого Иисуса, стучащегося в чью-то глянцевую дверь.
Иисус даже близко не походил ни на кого-либо из мужчин моего окружения – ни на бабушкиного румяного слесаря, ни тем более на моего татарского отца.
Видимо поэтому я часами могла зачарованным взглядом покачиваться на волнах его кудрей, покуда проникновенный шепот прабабушки не выводил меня из моего первого религиозного транса. «Это Иисус стучится в твоё сердце. Ты слышишь его стук? Тук-тук...»
Чтобы я быстрее услышала этот самый стук, прабабушка водила меня в католический храм, за неимением в округе протестантского.
Забегая вперед, скажу, что первый стук Иисуса я впервые услышала лет в 14. Поэтому во время тех детских, очень редких и очень тайных походов, я откровенно скучала на деревянных скамейках храма, иногда озираясь по сторонам, в надежде увидеть кудрявый локон стремительно удаляющегося в сторону чьего-то новообращённого сердца сына Божьего.
Прабабушка Валя, маленькая, фарфоровая, навсегда осталась в моей памяти загадкой. Женщиной она была настолько воздушной, что перед этой хрупкостью отступили даже беспощадные жернова ее личной исторической современности.
Проводив мужа в сталинские лагеря под расстрельный прицел за дружбу с одним из либеральных поэтов (о, проклятое интеллигентское рабство братство), она навеки похоронила в памяти двух самых главных своих мужчин – горячо обожаемого мужа Феденьку и не менее обожаемого вождя, в честь которого назвала свою дочь Сталиной. После того как любимый вождь убил любимого мужа, прабабушка переименовала дочь в Инну, отреклась от мужчин навсегда и посвятила всю свою жизнь женщинам – моей бабушке, моей маме и мне.
Логично предположить, что после стольких лет добровольного монашества в вероломном вторжении моего деревенского папы в ее уютную коммунальную квартиру моя прабабушка узрела небрежно швырнутую в лицо перчатку. Многолетняя дуэль с отсроченным исходом началась.
Долгие годы мы жили в этой коммунальной комнатке вчетвером – прабабушка, мои родители и я. Каждый день прабабушка забирала меня из детского сада и важно и бережно доставляла домой.
В любой момент я могу закрыть глаза и вспомнить этот неторопливый путь по аккуратным пушкинским дворикам.
Как сейчас я вижу аккуратные сталинские балкончики, где за белоснежными оконными проемами покачивают белоснежными кудельками бесконечные Антонины Михайловны и Ревекки Яковлевны – подруги моей бабушки.
Амплитуда покачиваний кудельков показывает степень одобрения пройденных мною сегодняшних смотрин – правнучка у Валентины удалась.
Там, за этими натертыми газетой окнами, мы снова пьём чай с сушками и колотым рафинадом из хрустальной сахарницы. Чай горячий, к и п я ч е н ы й, можно топить в нем рафинад и смотреть, как он превращается в воронку ароматной пенки. А можно есть вприкуску – молочные зубы все равно выпадут, а вставным старческим челюстям уже ничего не страшно.
После чаепития мы с бабушкой продолжаем возвращаться домой. Нас трое. Я. Бабушка и Ридикюль.
Все, что когда-либо достаётся из или кладётся в Ридикюль, вызывает у меня благоговение и восторг: апельсиновые жевательные пластинки из соседней булочной (можно сжевать целую пластину и даже не хранить пожёванный катышек ночью на тумбочке – в пачке ещё целых 4 штуки), шоколадные конфеты (н е б а т о н ч и к и!!!), прыгательная резинка (на, доча, новую тебе нашла! я видела беспомощные старые панталоны в мусорном ведре, ага, бабуль)
Кончики пальцев тактильно вспоминают холод металлических шариков замка ридикюля.
Через много лет я найду его в шкафу моей навеки уснувшей прабабушки. Клик-клик. И на меня пахнет нафталином, розово раззявленная пасть ридикюля плюнет в меня старой сберкнижкой, шиньоном седых волос и держателем для грыжи.
***
Могу ли я судить участников нашей личной семейной баталии, если о втором фронте я помню мало?
Яркая вспышка татарской деревни. Гигантские грузди вдоль лесной дороги, взрывающиеся под лупой колорадские жуки на картофельном поле деда, цепной щенок овчарки во дворе, избалованный мной за две недели до состояния плюшевой комнатной собачонки.
Бесчисленные татарские родственники, усаживающие утром за длинный уличный стол полчища грязных и счастливых детей, и укладывающие ночью этих еще более грязных и еще более счастливых детей поперек продавленной тахты в гостиной.
Папа, перемещающийся по деревенской улице от одного дома к другому – молодой, беззаботный, опьяневший от свободы настолько, что с трудом вспоминает, что в этом его путешествии в детство его сопровождаю я.
Биография моего папы, выросшего в деревне и гордящегося этим фактом по сей день – это удивительная история.
Наверное, она о том, как воспитание человека не зависит ни от школы, ни от текущего политического строя, ни от географии проживания, ни от семейного достатка, ни от количества прочитанных родителями книг Спока.
Она о том, что детей надо воспитывать личным примером. О том, какие удивительные дети вырастают в семье, где царит любовь, добро, уважение друг к другу, и самое главное – уважение к труду и науке.
О том, что ребёнку не поможет никакая престижная школа, если в семье вместо книг на полках стоит хрустальный сервиз.
О том, что можно озолотить всех репетиторов в округе, а можно купить годовую подписку на «Науку и Жизнь» и читать ее всей семьей.
Ещё она немного о том, как тяжело мальчику, выросшему в тихих лучах бесконечной любви невозможно ласковой татарской женщины, получить в 18 лет телеграмму о смерти матери.
Откуда: Россия, Глубокая Деревня.
Куда: Германия, Армейская часть #N.
Та моя татарская бабушка умерла от удара молнии в сердце. Точнее в нагрудный кармашек, куда она положила сдачу, забежав после сенокоса в деревенский магазинчик.
Всю жизнь мне кажется, что мой папа до сих пор в этом долгом пути из армейской части домой – к матери. В пути, который в своих фантазиях он до сих пор отказывается завершить, потому что мать в реальности он так и не увидел. Вместо этого во дворе деревенского дома его ждало ведро с водой, которой омыли ее ласковые руки, прежде чем навеки сложить их на груди.
Всю жизнь мне кажется, что мой папа делает этот огромный крюк по дороге домой – крюк через Ленинград, в который он приехал поступать в университет. В котором женился в поиске новых любящих рук и остался жить. Крюк, навеки подвесивший его в воздухе.
Став взрослой женщиной и родив двух сыновей, я впервые увидела в отце осиротевшего мальчишку, в немом горе склонившего макушку над этим ведром, до краев наполненным скорбью. Макушку, на которую в Ленинграде так и не легли ласковые руки. Отрекшаяся в молодости от всего мужского моя прабабушка щедро передала этот гендерный холод к противоположному полу через поколения. Своих маленьких женщин при этом любя горячо и беззаветно.
И перед моим новым материнским взглядом постоянно маячит эта одинокая макушка. Как часто мне хочется отмотать время назад и, проскрипев половицами коридора старой коммуналки, ворваться в нашу комнатку. Ворваться и прокричать глашатаем нашего домашнего бабьего царства – хватит воевать, просто погладьте моего папу по голове, пожалуйста!
В Ленинград мой папа приехал учиться на архитектора. А выучившись, решил доказать своей новой, до конца не принявшей его семье, и, наверное, в первую очередь себе, на что способен татарский мальчик из глубокой деревни, до начального класса школы не разговаривающий по-русски. Разорвать все мыслимые и немыслимые национальные и религиозные шаблоны, начав проект по восстановлению православного храма в центре города.
О, как я люблю эту особую касту истинных нигилистов – с лукавой улыбкой они будут небрежно убеждать вас, что они атеисты, а по ночам фанатично печатать сертификаты на именные кирпичи на закладку стен храма.
Золотые купола церкви уже много лет встречают меня издалека на подъезде к моему родному городу.
Каждый раз, когда я стою на пороге храма, восстановленного моим отцом, я чувствую бессмысленный холод сложенного на его ступенях оружия – здесь, наконец, подписан пакт о перемирии доблестными бойцами обоих, таких уже родных мне фронтов.
Каждый раз, когда я стою на пороге храма, восстановленного моим отцом, я поднимаю голову к небу и задаю немой вопрос: «Бабушка, ты слышала, как мой отец стучался в твоё сердце? Кындык-кындык...»

Автор: Алена Насырова