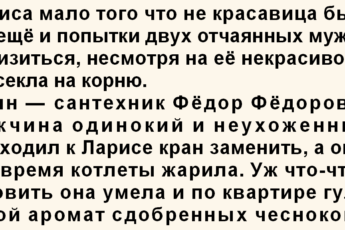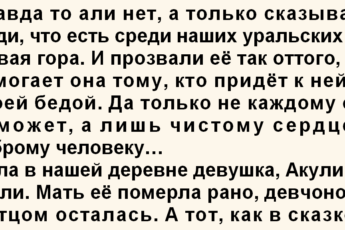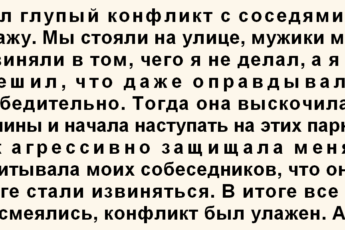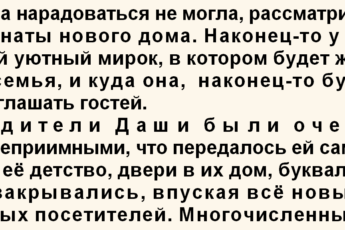В первый раз я влюбилась, когда мне было около пяти лет.
Он был худенький, маленький и болезненного вида.
Звали его Лёша Ростов.
Я его называла мой Алёшка!
У Алёшки была вытянутая овальная голова на тонкой шее, оттопыренные уши, вздёрнутые широкие брови и приоткрытый рот. В ту минуту, когда он улыбался, становился похож на солнышко. Светло рыжие волосы, растрёпанные как лучи и множество веснушек на лице. И только, когда улыбка исчезала, появлялось строгое, даже очень суровое выражение лица, не для ребёнка пяти лет.
Детдомовские мальчишки его обижали. Он не умел постоять за себя, за отобранную игрушку, не умел давать сдачи обидчику и часто хныкал.
Я была рослая девочка, почти на полголовы выше и в два раза крупнее. Решила, что если он мой парень, то больше его никто не посмеет тронуть. Каждый раз, если кто-то Алёшку дразнил или того хуже лез к нему драться – я вставала на защиту своего друга — размахивала кулаками посильнее мальчишек и пиналась ногами. Лёшке я завязывала шнурки, вытирала нос от соплей, заправляла рубашку в брюки.
По утрам, после восьми часов, в группу заходила кухонная нянечка, неся огромную алюминиевую кастрюлю с дымящейся кашей. Она была тучная, крепкая женщина, с добрым лицом, на голове тугая косынка, из-под которой ни видно было ни единого волоска. Я не помнила, как её звали, но широкую улыбку на лице — запомнила.
Запах молочной каши мгновенно распространялся и на спальню, смежную с группой, где в ожидании завтрака, каждый ребёнок сидел, уже умытый и одетый, на краешке своей кровати.
Лёшка любил каши. А я ненавидела и отдавала ему. Меня тошнило при виде жидкой массы с комьями, а Лёшка мой трескал с удовольствием, проглатывая кашу неторопливо, ложкой за ложкой. Взамен он отдавал мне кусочек сливочного масла, уложенный на хлеб, иногда компот из сухофруктов.
Мы всегда ходили вместе в паре, держа друг друга за руки. В паре, когда шли смотреть телевизор в актовый зал, в паре, когда строем вели нас в баню или, когда шли на прогулку.
Гулять водили только во двор и никуда больше.
На небольшой игровой площадке находилась песочница и две качели. У качелей выстраивалась большая живая очередь из ребят. Каждый мог раскачаться до десяти раз. Считали всем хором, громко вслух: раз, два... четыре, десять...Свою очередь я отдавала Алёшке и, держась крепко за цепочку, сама раскачивала его и следила за тем, чтобы он не упал. Лёшка казался счастливым, расплываясь в блаженстве и светился от радости как все лампочки, зажжённые по всему детскому дому.
После утренней прогулки нас вели на обед, а после него наступал ненавистный мне — тихий час. Я не понимала тогда смысла в нём. Почему надо спать, когда на улице светло? Лучики солнца пробивали насквозь прозрачные занавески, опускаясь до самого пола. Слышался шум проезжающих машин и разговор людей, проходящих мимо наших окон.
В спальне, где стояло тридцать коек, половина по левому ряду, половина по правому — наши кровати с Лёшкой располагались рядом.
Стены спальни окрашены были в светло-зелёный цвет не до самого потолка, а наполовину, остальная часть, побелена. По периметру потолка часто образовывалась паутина, и когда я долго не могла заснуть, следила, как паук проворно перемещался по своей сети, перебирая лапками каждую нить.
Раз в месяц тётя Катя, наша уборщица, шваброй снимала все паутины, а через неделю они опять образовывались. Я тогда и понятия не имела, что пауки, мокрицы и прочие насекомые, жившие вместе с нами – это противоестественно и считалось антисанитарией. Но на тот момент казалось вполне забавным и часто, мы дети, тараканов давили пальцами под всеобщий смех.
Уснуть не могли долго, перешёптывались с Алёшкой, корча рожицы и глядя друг на друга, пересмеивались.
Однажды это не понравилось нашей воспитательнице Зое Николаевне.
За глаза мы её называли надзирательницей. Она была мастером жутких наказаний. До распределения в наш детский дом, воспитательница работала в колонии с трудными подростками, где, видимо, она и научилась не сдерживаться.
В этот раз, подойдя к Лёшке, она грубо скинула с него одеяло и схватив за ухо, повела к окну.
– Снимай трусы, — истошно рявкнула Зоя Николаевна.
Взгляд её наполнился безумством и презрением, изо рта летели слюни, скулы и без того квадратные, расширились.
Алёшка мой покорно стал снимать семейки; так мы называли мальчишечьи трусы на два размера больше, длиной до колена. Как только он их снял, она рывком руки, похожей на клешню, взгромоздила голого друга на подоконник и приказала стоять смирно.
Я не смотрела на Алёшку. Мне было обидно и досадно, что не могу заступиться за него. Сжимала кулаки под подушкой и ненавидела эту тётку ещё больше.
Остальные дети от страха укрылись с головой, но в щелочку из — под одеяла подглядывали за происходящим. Воспитательница неистовствовала ещё больше. Подбежала к Кате Соколовой. Только потому что тапочки вместе не были поставлены, выхватила девочку из постели, раздела полностью и поставила лицом в угол у двери. Это было самое унизительное, самое мерзкое наказание — голыми у всех на виду.
За два дня, до этого случая, Петю, мальчика с нашей группы, так же раздела догола и повела по длинным коридорам детского дома. Мы называли это «Тропой позора».
Вслед ему кто смеялся, кто пальцем тыкал, а я закрывала лицо руками, отворачивалась...Стыдно было.
Зоя Николаевна долго ещё не могла угомониться, визжала, проклиная нас и оскорбляла. «Дети выродков. Недоразвитые. Будущие уголовники»
Закончился тихий час. Алёшка мой, замёрзший, спустился с подоконника и стал искать трусы, которые куда-то бросила надзирательница. Выглядел он жалко. Тощий, с просвечивающими рёбрами, с полным носом соплей. Подбежав к нему, я накрыла его покрывалом, прижала к себе.
– Алёшка, когда мы вырастем, мы убьём её! Слышишь? Только не плачь.
Уткнувшись мне в плечо, Лёшка, хлюпая носом, соглашался. Я жалела друга, гладила по голове, вытирая с его щёк слёзы и лепетала утешительные слова.
– Голыш-малыш, – раздался сзади язвительный смех Стаса Полякова.
Стас считался в группе хулиганом и ябедой. Про таких обычно говорят: сила есть — ума не надо! Совершенно не умеющий мыслить, похожий на мартышку, да и выглядел он как самый глупый мальчик в мире. Поляков всегда докладывал Зое Николаевне о наших нарушениях, был у неё в любимчиках, и та нас наказывала по его доносам.
Лешка мой продолжал всхлипывать.
Меня резко накрыло от злости, и я кинулась на Полякова. Стас увернулся и первым нанёс удар кулаком по затылку, от которого я присела. Потом с размаху стукнул меня по носу, ещё и ещё раз... Я беспомощно прикрылась, но очередной удар по голове выбил меня из равновесия, и я оказалась на полу.
Лёшка, перестав плакать стоял как вкопанный, с испуганными глазами. Увидев меня лежащую, его затрясло. С рёвом, не свойственным для себя, он набросился на Полякова. Схватил худенькими ручками обидчика за волосы, пытаясь его от меня оттащить и пронзительно закричал:
– Не трогай её! Не трогай!
Стас изогнулся, нанося удар Лёшке под брюхо ногой, а другой двинул, что было сил по корпусу. Лёшка охнул и опустился на колено.
– Дураки, – почёсывая затылок от боли, промолвил Стас, и отошёл от нас, посчитав, что с нас и так хватит.
Обычно с Поляковым я на равных дралась, но в этот раз он сильнее оказался.
Раз в полгода у нас в детском доме проходили «смотрины». Это когда взрослые приходили выбирать себе ребёнка на усыновление. Всех одевали во всё чистое, причёсывали и сажали на стульчики в один ряд. Руки при этом должны были быть на коленях. Если Зое Николаевне не нравилось кто как сидел, она подлетала со свойственной ей злой гримасой и била палкой-указкой.
Поэтому, когда надзирательница проходила мимо, каждый старался сидеть не шелохнувшись. Боялись даже моргнуть. Иногда удар по голове был неожиданным. Это потому, что все сидели по правильному, а воспитательнице на ком-то необходимо было сорваться и для этого она выбирала тех, кто ей больше всего не нравился. Я ей тоже не нравилась. В этот раз удар обрушился на мою голову. Я зажмурилась от боли и сцепила пальцы за край стула.
Дверь отворилась и в группу зашёл статный мужчина плотного телосложения в военной форме с большими звёздочками на погонах. Он был смуглым, с карими глазами, с чёрной шевелюрой и от него приятно пахло одеколоном. Пошёл по ряду, пристально всматриваясь в каждого. Взгляд его остановился на мне.
– Она!
И, не дождавшись реакции воспитательницы, быстрым шагом направился в мою сторону. Военный сел на карточки и заглянул мне в глаза.
– Хочешь я буду твоим папой!
Я радостно кивнула. Он прижал мои кулачки своими огромными ладонями к своей груди и продолжал с улыбкой на меня смотреть. Чтобы никто не услышал, я нагнулась к его уху и прошептала:
– Заберите меня! Здесь бьют!
Лицо его мгновенно поменялось. Он сурово посмотрел на Зою Николаевну, окинул взглядом всех детишек, обнял меня и вышел. Ещё несколько раз приходил ко мне, уже со своей женой, приносили гостинцев, гуляли со мной. Удочерить не смогли. Мама моя хоть и отбывала срок, но не была лишена родительских прав.
После первого прихода военного меня надзирательница наказала. Видимо, не настолько тихо я шепнула, что она услышала.
Сначала кинула меня в сушилку — в маленькую каморку с огромными круглыми батареями, где сушились ссанные матрасы и уличная обувь. Часа три там просидела без света, без воздуха. Жарило сильно. Пришлось снять вещи и постелить под себя. Невозможно было распрямиться. Не хватало высоты и сидеть пришлось на корточках. Хотелось пить...
Про меня будто забыли. На какое-то время я отключалась... А когда приходила в себя, начинала стучать в дверь... Силы покидали.
Наконец меня открыли. Кто-то из детей пришёл положить обувь, а оттуда вывалилась я.
Следующим наказанием для меня стала голодовка.
Зоя Николаевна отвела меня в кабинет, заперла на ключ и ушла, не объяснив на сколько. Я сутки просидела там. На подоконнике стоял графин с водой — этим и спасалась. Спать приходилось на двух стульях, составленных рядом.
Алёшка мой меня не забывал. Он как верный друг приносил мне куски хлеба и пихал под дверь. Из столовой ничего нельзя было выносить. Воспитательница всех шманала. Алёшка прятал хлеб в трусы и проходил незаметно.
Мой Алёшка. Он потом долго не уходил. Стоял по ту сторону двери и смешил меня. Я, боясь за него, просила уйти.
– Я твой рыцарь! – восклицал он. – Я не брошу тебя!
Вот такой был мой Алёшка!
Вскоре воспитательницу уволили — прознали об её пытках. Всё-таки место нашей надзирательницы было в колонии с малолетними преступниками, а никак не с нами, с обычными детьми-сиротами. Я не одна была её жертва. Была и девочка с большой лысиной на макушке. Это в очередном приступе ярости Зоя Николаевна на неё вылила кипяток из чайника.
Был мальчик со шрамами. Зоя Николаевна забыла его в овощехранилище во время наказания, где его покусали крысы.
Нас с Алёшкой разлучили, когда нам исполнилось по семь лет. Его отправили учиться в самарский интернат, а меня в область. Прошло много лет, и я сама нашла Алёшку. Училась уже в Ленинграде на реставратора. А он в техникуме, в Самаре. С волнением ждала этой встречи. Вышел ко мне мой Алёшка другим, изменившимся. Алексеем.
Симпатичный, высокий, широкий в плечах!
Мы с ним проболтали долго, сидя в кафе. Шутили, смеялись, вспоминали нашу надзирательницу.
При расставании, на платформе железнодорожного вокзала, когда мой Алёшка нагнулся меня поцеловать, в его глазах я увидела те же самые слёзы детства, слёзы моего преданного маленького друга...

Автор: Ирина Проскурина