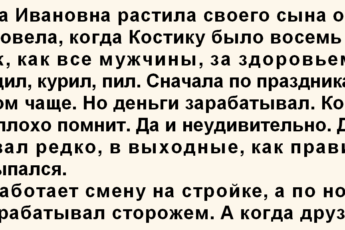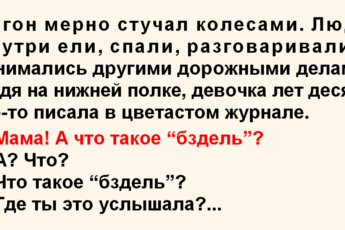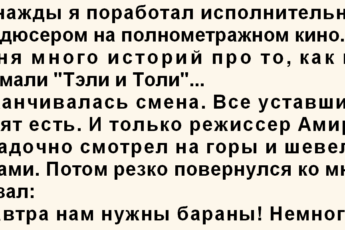На чердаке гораздо теплее, чем на улице, и не метет. И все же холод пробирает до костей. Двое пацанов жмутся друг к другу, съежившись калачиками на холодном керамзите, пытаясь согреться. Смрадно и затхло пахнет голубиным пометом. А снизу, по вентиляционной вытяжке, доносится гул голосов, музыка и обрывки смеха. Целых девять этажей предпраздничного веселья. Как говорится: нам нет места на этом празднике жизни...
В животе у Степки заурчало тоскливо, под стать настроению. Пошевелившись он сел, обхватив колени руками, отчаянно предложил:
— Все, Мишук, не могу больше. Пошли по квартирам, авось пожрать дадут.
Долговязый Мишка, обряженный в драные куртку и штаны, тоже сел, сунул в рот чинарик, и скептически хмыкнул:
— Дадут, как же...
— Да брось ты. Старый Новый год все-таки, люди поддатые и добрые. Пошли. Жрать же охота, аж кишки к спине прилипли…
В дверь не позвонили и даже не постучали, а как-то несмело и осторожно поскребли. Виктор, в гости никого не ожидавший, чутко уловил сквозь вопли телевизора шорох, убавил звук и прошел в прихожую. Глянул в глазок. На площадке топтались двое пацанов, переминаясь с ноги на ногу. Пощелкав замками Виктор приоткрыл дверь, молча и выжидающе посмотрел по очереди на обоих. Тот, что пониже ростом, но, видать, посмелее, чересчур уж вежливо
попросил:
— Простите за беспокойство, не найдется ли у вас чего-нибудь поесть?
Сказал — и оба напряглись, готовые услышать грубый отказ и сорваться с места. Побирушкам на улице Виктор из принципа не подавал, особенно цыганам таджикским. Знает, какие они «бедные». У многих на родине по два-три дома имеется и парочка гаражей в придачу. Но тут словно резануло изнутри: ведь не денег просят, а пожрать. И такой волчий голод у обоих в глазах, что сыграть просто невозможно. Чуть помедлив, сказал «сейчас» и прикрыл дверь. На всякий случай защелкнул замок. Мало ли. Вон в газетах постоянно пишут: пустит человек по доброте душевной, а пока поесть собирает, глядишь, уже полквартиры обчистили.
Пошарив в холодильнике, положил в пакетик пяток сарделек, хлеба и три мандарина. Вернувшись в прихожую, открыл дверь, молча протянул пакет тому, что пониже. Тот цапнул грязной лапкой, как воробей. Носом шмыгнул:
— Спасибо...
Заперев дверь, Виктор постоял, прислушиваясь к звукам в подъезде. Снова выглянул в глазок. Пацаны прямо на площадке и расположились, развернув пакет на ларе с картошкой. Жадно вцепились зубами в сардельки, ломали хлеб грязными руками. А мандарины, кажется, прямо с кожурой в рот и запихивали...
Понаблюдав с полминуты, Виктор тяжело вздохнул, защелкал замками. Пацаны на звук обернулись испуганно, судорожно глотая, что успели откусить.
— Пойдите сюда.
— А чего?
— Иди, говорю, сюда... Зайдите.
В прихожую вошли робко, стреляя глазенками по сторонам. Виктор решительно потянул с одного затасканную куртку:
— Ну, вот что. Раздевайтесь. Давайте, давайте. Шлепайте на кухню, поедите по-человечески.
Переглянувшись, попрошайки, как по команде, скинули куртки и ботинки, затоптались на месте, не решаясь ступать по чистому полу замызганными носками. Критически осмотрев обоих, Виктор снова вздохнул:
— Давайте-ка, хлопцы, для начала в ванную. Да тряпье свое здесь снимайте. Ну, живо!
Долговязый потянул с себя рубаху, а тот, что пониже подозрительно спросил:
— Дядь, а ты не того?
— Чего «того»?
— Ну... это... — и комично закорчил рожи, видно не рискуя уточнить. Все
же решился. — Не гомик?
— Ах ты!..
Затрещину Виктор отвесил недорослю от души, аж звон пошел. Подавил желание тут же указать на дверь, жестко повторил:
— Марш в ванную! И только заикнись мне еще.
Коротышка потер заалевшее ухо, обиженно протянул:
— А че сразу драться то? Мало ли случаев? Завлечет к себе малолеток...
— Брысь!
Обоих как ветром сдуло. У Виктора и злость сразу прошла. Усмехнулся, покрутив головой, процедил сквозь зубы: «Вот чертенок..." Ворохнув ногой одежонку пацанов, принес большой пакет и все скопом запихнул туда. Постучал в дверь ванной:
— Там шампунь и полотенца свежие.
— Видим!
— Ишь ты, видит он.
После ванны Виктор обрядил пацанов в старые тренировочные костюмы, усадил за стол. Пока те наворачивали макароны по-флотски, рассмотрел их получше. Коротышка без корки грязи оказался белобрысым и веснушчатым. И, видать, любопытным. Вилкой орудовал, а глазенками по сторонам так и постреливал. Длинный и худой больше походил на цыганенка, только уж больно вялый и неразговорчивый. Потягивая чай из пиалки, Виктор поинтересовался:
— Как зовут-то?
Маленький тут же отозвался:
— Меня — Степка, а его — Мишук.
— Он что, цыган?
— Не-а. Папаша у него грек.
— И где же папаша с мамашей?
— Мамаша у него алкоголичка. А папаша в Греции. Авиационный здесь закончил, Мишука заделал и поехал в свои Афины самолеты строить.
— Понятно... Ну а ты, чьих будешь?
— А я ничьих, я сам по себе. А вас как зовут?
— Виктор Николаевич. Можно дядя Витя.
Степка ткнул вилкой в фотографию на стене:
— Вы летчик?
— Испытатель. Бывший. Сейчас на пенсии.
— А где жена? Я в том смысле, ежели появится, не попрет она нас?
Споласкивая пиалу в мойке, Виктор успокоил:
— Не попрет. Я тоже ничьих. В смысле, сам по себе.
Степка едва не взвизгнул от восторга:
— Бросила!? Я так и думал!
— Не радуйся, шельма, вдовец я. А ты чего все молчишь, грек? О чем думаешь?
Мишка оторвался от еды, сонно посмотрел на Виктора:
— Я не думаю, дядь Витя, я ем.
— Глубоко, — усмехнулся Виктор. — Ну, давай, наворачивай...
Пока пацаны сопели над чайными чашками, чуть не пригоршнями засовывая в рот конфеты, каждый раз боязливо косясь при этом на Виктора, тот размышлял что же с ними делать. Выставить теперь на улицу было бы жестоко, оставить у себя — кто ж его знает... Все же решился.
— Вот что, голуби. Ночуйте нынче у меня. А завтра видно будет.
А что видно будет, собственно? Все равно на постоянное жительство не
возьмешь. Отоспятся, бедолаги, в домашних условиях, а там, как говорится, каждый сам за себя, один бог за всех...
На всякий случай строго предупредил:
— Только учтите: сплю я чутко. Не вздумайте уйти не прощаясь. Одежонку я вам кое-какую собрал, тряпье свое завтра выбросите. Утром позавтракаете, с собой вам соберу. Ну, и... Давайте-ка спать. Утро вечера мудренее.
Спал он плохо и тяжело, хоть и похвастался, что сон имеет солдатский.
Снились обычные в последнее время кошмары. Поседевшая раньше срока Алена в гробу, последняя испыталка, и чертов не раскрывшийся парашют под Росстанью. А мартовское утро было тогда таким чудным и солнечным, и жить от того хотелось необычайно сильно. Так, что вжался в кресло катапульты каждой клеточкой тела, до белизны пальцев, до зубовного скрежета. Парашют так и не раскрылся. А высота она ведь только для МиГа сверхмалая...
Проснулся в холодном поту. Сердце бешено колотилось, казалось, прямо в глотке. За окном еще темно, и метет как в феврале. Нащупал на тумбочке валидол, сунул под язык. Туда же отправил пару капсул нитроглицерина. Прислушался к звукам квартиры. Тихо было, как на кладбище. С вечера пацаны свистели своими сопелками как суслики, а сейчас — ни звука. С трудом поднявшись, преодолевая боль и жжение в груди, Виктор вышел в зал и вполголоса выругался.
Диван был пуст, и аккуратно прибран, пацанов и след простыл. С нехорошим предчувствием шагнул к стенке, дернул дверцу. Так и есть, заначка, вложенная в сберкнижку, пропала. Книжка тоже. И еще — резная шкатулка привезенная из Ферганы. А в ней награды и письма, письма... Письма от Алены во все его командировки, куда мотала его летная судьба. Самое ценное, что оставалось в жизни. В глазах сразу черно стало, легкие, казалось, разорвутся от невыносимого жжения. И потолок с яркой люстрой враз опрокинулся. Еще паутинку в углу заметил, подумал: «Надо бы смахнуть..."
Очнулся Виктор на жесткой кровати, прикрытый желтоватой простынкой. Стены вокруг зеленовато-серые, потолок белый. Напротив еще одна кровать, с неподвижным телом. Скосив глаза еще немного, обнаружил стойку с капельницей, и тут только почувствовал тупое онемение в руке от катетора. Сообразил, что лежит в реанимации.
Через пару минут и врач появился, Андрей Терехов, знакомец старый. Сбив шапочку на затылок потер лоб, широко улыбнулся:
— С добрым утром, Виктор Николаевич. Как самочувствие?
Виктор, поморщившись, вяло отозвался:
— Божеское. Рука вот только занемела.
— Так ведь вторые сутки с катетором... Зачастили вы к нам, товарищ полковник. Третий инфаркт за пять лет. Не многовато?
Поерзав, Виктор улегся поудобнее.
— Ни черта не помню. Как я сюда?
— Бригада вас привезла. Говорят, соседка заметила, что у вас дверь в квартиру настежь, зашла, а вы в зале на полу, во всей красе. Она скорую и вызвала. Да, кстати, вам тут передача. Пришли два пацана, сущие оборванцы, говорят племянники ваши. У вас же, кажется, никого кроме дочери?
Терехов положил пакетик на край кровати, предложил:
— Может, дочери вашей сообщить?
— Ни к чему. На похороны еще рано, а попусту — чего же беспокоить...
Когда Терехов вышел Виктор вытряхнул пакет себе на грудь. С пяток мандаринов посыпались в разные стороны, ударяясь о резную шкатулку. Веером рассыпались деньги поверх сберкнижки. Последним выпорхнул несвежий тетрадный листок. Торопливо раскрыв свободной рукой шкатулку с облегчением увидел пачку писем, награды. Отдельно — в алой коробочке — тускло сияла Золотая звезда. Встряхнув, развернул записку. Карандашные каракули, сплошь без запятых и с кучей ошибок, разобрал не без труда:
«Дядя Витя прастите нас. Чесное слово мы не знали. Вы оказываеца Герой Совецкого Союза а мы сволочи. Немного денег мы патратили обизательно вирнем. Видели как вас увазили мы же в саседнем доме на чирдаке. А письма вашей жены очень красивые. Мы читали и плакали. Степка и Мишук. Завтра придем ище."
Положив записку на грудь, Виктор прикрыл глаза, и вслух сказал:
— Вот паразиты... Сволочи они, видишь ли. Ладно, хоть хватило смелости вернуться...
Мишка со Степкой и впрямь пришли еще. Правда, только через три дня.
Прорваться уже не пытались, терпеливо дождались, когда выйдет врач, все тот же Терехов.
Увидев их возле двери, Андрей не улыбнулся, как в прошлый раз, устало спросил:
— К полковнику? Племянники?
Степка выступил вперед:
— Ага. Мы вот передачу...
— Врете вы все, племянники. Я Виктора Николаевича хорошо знаю, у него из родни только дочка в Питере. Если хотите, можете с ней завтра познакомиться, на похоронах.
Степка испуганно округлил глаза, пропищал:
— Каких похоронах?
— Таких... Умер Виктор Николаевич, позавчера ночью. Не выдержало сердце, надорвал он его.
Степка сжался, втянув голову в плечи, глухо сказал:
— Мы знаем. Он испытателем...
— Да ни черта вы не знаете! Он не просто испытателем был, он катапульты испытывал. А там перегрузки такие, что металл как бумага рвется, не то что человеческие кости и мышцы. Так то вот. Эй, племянники, куда вы? А-а-а...
Терехов махнул рукой вслед пацанам, хлопнул дверью.
На улицу Мишка со Степкой выкатились молчаливые, мрачные. Минут пять бесцельно брели, не глядя друг на друга. Мишка вдруг резко остановился, злобно сказал:
— Сволочь ты, Степка. Это ты виноват.
— Я?!
— Ты! Кто сказал: «Давай возьмем"? Взяли...
— А кто деньги вытаскивал?
— А шкатулку кто хапнул?
— Я хапнул? А ты...
Побледнев так, что каждая веснушка на лице стала красной, Степка без размаха врезал острым кулачком Мишке в нос. Долговязый опрокинулся в снег, забрызгав сугроб кровью. Сел, обхватив колени руками, даже не собираясь отвечать. Постояв с минуту над ним, Степка тоже опустился в снег, привалился к Мишкиному плечу щекой, и вдруг заплакал — навзрыд, сморкаясь и подвывая. То ли от вины своей, то ли от обиды на жизнь сволочную. Прижав его к себе, Мишка молча утирал свободной рукой кровь из разбитого носа, и смотрел куда-то вдаль, где улица упиралась желтыми двухэтажками в лесопосадку.
А там то ли туман стоял, то ли у Мишки просто слезы на глаза навернулись. Жгучие, и потому не застывающие на морозе...
Автор: Алексей Клёнов