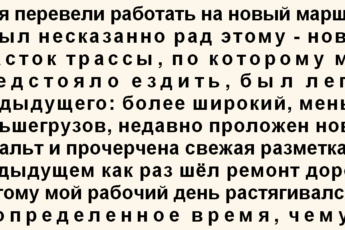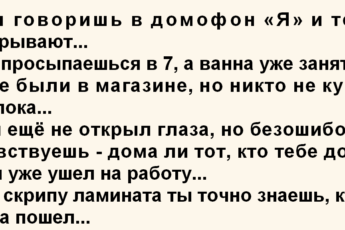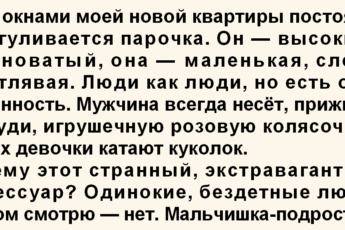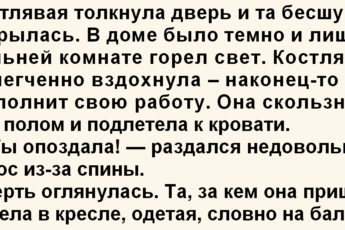Лейтенант был самым старым в подвале. Он уже месяц умудрялся жить, когда других выкашивало через неделю, а то и день. Имен он уже не запоминал.
Убили? Вычеркнул. Ранили? Забыл. По запорошенным, закопченым лицам тоже было трудно различать. В подвале висела красная пыль. На зубах хрустела кирпичная крошка.
Дом попался старинный, надежный. Перекрытия третьего и четвертого этажей давно рухнули, а вот стены еще стояли. Ни снаряды, ни бомбы не могли свалить бывшего купеческого великана. Дом был полукруглый, выходил фасадом на перекресток. Лейтенант не знал, хорошо это или плохо. Ему просто было удобно контролировать и сам подвал, и подступы к нему. Окна узки, стены толсты: удобно и жить и воевать.
Люди появлялись и исчезали, появлялись сами или с подкреплением, исчезали тоже сами, когда их тела на скорую руку заваливали осколками кирпичей во дворе. Из его взвода уже не осталось никого, только он да радист.
Хорошо было с боеприпасами, плохо с едой и очень плохо с водой. Когда шел дождь, бойцы выбирались наружу и собирали воду в консервные банки, котелки, бесхозные каски. Еду, время от времени, доставляли из тыла. А в углу стояла бочка с растительным маслом. Откуда она взялась, лейтенант понятия не имел.
Может быть, до войны, здесь был продовольственный магазин, все эвакуировали, а бочку забыли. А, может быть, кто-то из рачительных жильцов запасся еще в прошлой жизни. Теперь это масло подливали в остывшую кашу, им же чистили оружие. За неймением горничной, имеем дворника, туды твою качель.
С оружием было хорошо. После первой недели боев, когда атаки прекратились, команда охотников оползала ночами все доступные им точки, собирая вражеские карабины, автоматы, пистолеты, обоймы, подсумки, ящики. Умудрились притащить даже миномет, что здорово помогло на следующей неделе, да и после, пока мины не кончились. Не брезговали, впрочем, и едой, и санитарными пакетами. На войне брезгливость погибает первой.
Лейтенант обходил подвал, проверяя пулеметные точки. Большей частью народ спал: чем еще заняться в кромешной темноте? Время от времени просыпались, подползали к амбразурам, перекидывались парой не значащих слов с расчетами, снова отползали, снова засыпали. Курили строго по расписанию, деля одну трофейную сигарету на троих, зажимая окурочки спичками.
Возле бочки с маслом сидел здоровенный бритый морпех. Голова его была обвязана, фуфайка прожжена в нескольких местах, на штанинах запеклась кровь: не поймешь, чужая ли, наша ли. Рядом с морпехом горела свечка, он наклонялся к ней, разбирая слова в здоровенной книге и шевеля губами. Страницы он перелистывал немецким тесаком.
— Что читаешь, полундра?
Говорили тут полушепотом, по привычке, хотя можно было и кричать, и песни петь всем хором. Немцы знали, что они здесь, наши знали, что знают немцы. А вот говорили все равно полушепотом, осторожно беспокоя редкую тишину.
Морпех показал обложку. Написано было готическим шрифтом, лейтенант не разобрал.
— Что ж ты фрицевскую литературу читаешь?
— Ну, товарищ командир, это же Кант. Kritik der praktischen Vernunft.
— Чего?
— Критика практического разума. Так сказать, основы современной философии.
— А, — коротко согласился лейтенант, ничего не поняв. — Студент, что ли?
Морпех прибился к гарнизону три дня назад. Но дни эти были тихие и старожилом он не считался.
— Так точно, студент. С третьего курса историко-филологического призвали.
— А по тебе не скажешь.
— Ага, — вздохнул студент и снова начал читать.
— О чем пишет? — лейтенант сел рядом.
— Да я через слово понимаю, честно говоря. Тут такие конструкции наворочены... Вот, например... «Die Ordnung und Regelma?igkeit an den Erscheinungen, die wir Natur nennen, bringen wir selbst hinein, und wurden sie auch nicht darin finden konnen, hatten wir sie nicht, oder die Natur unseres Gemuts ursprunglich hineingelegt»
Во как!
— Это что?
— Да черт его знает... Я и в русском переводе плохо понимал, о чем он.
— Зачем тогда читаешь?
— Глаза по буквам соскучились, товарищ командир.
— Поспал бы лучше, отдохнул. Или чем полезным занялся.
— Мозгу тренировка необходима, товарищ командир. Он же такая же мышца, без дела сохнет. Вот скажите, если не знаешь, что делать, как поступать?
— По Уставу, — не задумываясь, ответил лейтенант.
— А если в уставе нет такой ситуации?
— Тогда по уму.
— Но ведь и ум может ошибаться. Если, например, недостаточно разведданных, то вы ведь не поведете в атаку взвод?
— Поведу, если приказ будет.
— Ну а если приказ такой, чтобы вот выбить немца с перекрестка и с минимальными потерями? А данных разведки нет? И перекресток не возьмем, и народ положим под пулеметами.
— Посажу снайпера или вот тебя же с противотанковым ружьем, сиди пулеметчиков отщелкивай.
— На все у вас ответ есть...
— Я ж не твой Кант. У меня приказы есть, начальство. Устав опять же.
— А в жизни? В жизни были у вас ситуации, когда и приказа не было, и ум не помогал?
— Предположим.
— Тогда как поступали?
— По совести, как еще-то.
— Стало быть, на войне уставы и приказы совесть заменяют?
— Ты мне эти антисоветские разговоры брось, амфибия! — закипел лейтенант, понимая, что попал в хитроумную ловушку.
— Да что вы, товарищ командир... Это же философия. На Канта, между прочим, и Маркс ссылался, и Энгельс, и товарищ Ленин.
Лейтенант остыл.
— Ругали, небось?
— Не без этого.
— За что?
— Ну... За идеализм.
— А! Это правильно, — согласился лейтенант. — Помню. Наш политрук таким был. Отходим, значит, июлем сорок первого. А он все трындит, что вот-вот и немецкие пролетарии восстанут, потому как осознают, что война ведется несправедливая, против первого государства рабочих и крестьян.
— И что?
— Так убили его немецкие пролетарии. Прямо перед строем и расстреляли, когда мы в плен попали. Так идеалистом и помер.
— А вы?
— А я сбежал.
— Ааа... А Кант вот говорил, что к любому человеку надо относится как к цели, а не как к средству, — невпопад ляпнул морпех.
— Это он правильно, — одобрил лейтенант. — Это вот надо каждому бойцу внушить, относись к немцу как к цели.
— Так он о другом, это же его категорический императив.
— Ну вот мы его категорически и применим. Книжку свою спрячь, лучше поспи. Ночью тебя отправлю на переноску раненых. Разминать не только мозги надо.
Морпех вздохнул, отложил книгу, задул свечку и улегся.
Стало темно, глаза постепенно привыкали и лейтенант снова начал видеть. Скупые порции света из амбразур немного, но освещали низкие сводчатые потолки, дремлющих бойцов, кучи кирпичей, гильзы. Где-то за окном гулко бабахали взрывы, но били не по ним, потому лейтенант был спокоен. На минуту он прикрыл глаза, вслушиваясь в канонаду.
Ему вдруг показалось, что это великаны отмечают великанскую свою свадьбу, яростно топоча громадными пятками об землю. Так остервенело пляшут «Топотуху» деревенские бабы, старясь если не пробить скобленый пол, так хотя бы стаканы со стола уронить.
Минута прошла и лейтенант поднялся, продолжая обход.
В дальнем, самом безопасном углу подвала, лежали раненые. Стонали, молчали, скрежетали зубами. Хорошо, что никто не выл. В прошлый раз лейтенант едва сам не пристрелил раненого в живот молоденького бойца, который выл на одной ноте, не переставая. Да тот сам помер к вечеру.
Два санитара играли в карты, не обращая внимания на раненых. Лейтенант знал, что колода трофейная, порнографическая, и что в ней не хватает пяти ли, шести ли карт. Но ему было все равно, впрочем, санитарам тоже. При виде командира они не встали, в подвале вообще было не до козыряний. Дисциплина тут держалась вовсе не на Уставе, тут лейтенант лукавил морпеху. Дисциплина держалась на общем деле, которое было очень простым. Не пропустить немца через перекресток и остаться в живых. Именно это и просил, уже не приказывал штаб.
— Никто не помер?
— Пока никто, — флегматично ответил усатый санитар. Второй, постарше, но бритый промочал.
— Как стемнеет, начинайте эвакуацию.
— Есть, — на этот раз отозвались оба. Усатый партию проиграл, смешал карты и начал тасовать колоду.
— Партейку, товарищ командир?
Лейтенант отказался, карты он не любил, тем более порнографические. Чужое это, неправильное.
Он уже собрался идти обратно, но тут санитар остановил его.
— Товарищ командир, там девка которая, все вас звала.
— Что не позвали?
— Да бредит она, говорю, что надо, а она только: «командира позови, командира позови». Говорю, так я передам, если что важное. А по пустяковым делам, зачем его беспокоить? Нет, говорит, только ему скажу
— Где она?
— Да вона, за балкой лежит.
Лейтенант осторожно перешагнул упавшую балку.
У девчонки не было лица. Вернее, было, но пряталось под слоем бинтов. Глупо ранило, конечно. Шальной снаряд ударил в самую стену и осколки кирпичей свалили пробегавшую медсестру. Все ничего, да только с лица будто скальп сняли, вместе с носом. А череп цел, и кости все целы, и ни царапины больше. И рот с подбородком не задело. Мужику бы и то не сладко таким уродом стать, бабе-то зачем?
— Эй! — тронул лейтенант ее за руку.
Белая голова повернулась на голос:
— Вы, товарищ командир?
— Я. Что хотела?
— Меня Маруся зовут.
— Что хотела, Маруся?
— Вы только не смейтесь, товарищ командир. Обещаете? Не смейтесь, ладно?
— Обещаю, Маруся.
— Ближе наклонитесь, я скажу.
Лейтенант наклонился к раненой.
— Еще ближе.
От бинтов пахло карболкой, кровью и еще чем-то острым, медицинским.
— Товарищ командир, сделайте мне ребенка.
— Что? — не понял лейтенант.
— Сделайте мне ребенка!
— Да ты что, Маруся! Ты это... Ты не переживай. Все хорошо будет, в госпитале тебя починят, все будет в лучшем виде. Найдешь себе жениха и строгайте вы с ним хоть десяток. Вот у меня случай был, парню осколком по лбу прошло. Шмат кожи отвалился такой, что до рта свисал. Ну, думаем, все, крантец парню. А нет, месяц прошел — только шрам под самыми волосами. Нормально все будет.
— Командир, я очень прошу.
— Я, видишь ли, Маруся, женат...
— Да причем тут это, — застонала она. — Женат, не женат, какая разница?
— Да я ж тебя даже не люблю.
— Можно подумать, я вас люблю. Нет, конечно, — тонкие, бледные губы едва тронула усмешка. — Просто сделайте мне ребеночка. Ведь убьют всех, а кто рожать будет?
— Ты и будешь, только дома, в тылу.
— Не понимаешь ты, командир, — перешла она вдруг на ты. — Нам ведь, бабам, только и надо, чтобы муж любимый был, ласковый, да детишки. Мужа у меня не будет уже, так хоть сынок останется или дочка, все равно. Сделай мне ребенка, командир!
— Да будет у тебя муж, будет, — осторожно погладил Марусину руку лейтенант. — С лица ведь воду не пить, главное чтобы стать была, да нрав добрый. Чтобы человек хороший был.
— Горит все, — пожаловалась она.
— Оно и понятно, горит. А как же не гореть? — согласился лейтенант. — Сегодня тебя в тыл отправим.
— Дайте тогда пистолет, я застрелюсь.
— Ремня тебе надо дать, — вздохнул лейтенант. С женщинами он говорить не умел и не любил. И тут вдруг вспомнил морпеха. — Слышь, Маруся, а ты знаешь, что такое категорический этот... им... ин... Инператиф.
— Болезнь такая? Нет, мы такую не изучали.
— Это, Маруся, такое правило. Когда тебе больно и ты не знаешь как быть, то относись к другому как к цели, а не как к средству. Вот ребеночек для тебя цель, а я как средство. Значит что?
— Что?
— Значит, это неправильно.
— Я даже плакать не могу, — призналась она и прикусила губу. — Нечем.
— Да в порядке у тебя глаза, я узнавал. Просто пылью забило. В госпитале промоют, — лейтенант врал. Он понятия не имел, в порядке ли у нее глаза, да он вообще ее лицо не помнил, и узнавать ничего не узнавал: когда ему было? Санитары сказали, что жить будет, и ладно. — Да и вообще, ты танкистов видала после боя? Ой, там столько обгорелых да слепых...
Лейтенант понял, что сморозил глупость и, как все в таких случаях, стал говорить громче и еще увереннее:
— ...полюбят тебя, Маруся, еще как полюбят. И ты полюбишь, а я к вам на свадьбу приеду отцом посаженным. И в крестники пойду, Маруся. Возьмешь меня в крестники?
Девчонка пожала ему ладошку ледяными пальцами.
Он привстал, стараясь не удариться о потолок:
— Я, Маруся, сейчас пойду, но вернусь. Обязательно вернусь.
Она ничего не ответила.
Лейтенант вернулся к санитарам.
— Морфий-то есть у вас?
— Есть маненько.
— Вколите девке, совсем плоха.
— Мало же его!
— Вколите, вколите. Пусть поспит. Ей поспать надо.
Усатый крякнул, полез в сумку за ампулой.
— Фамилия-то у нее какая? — вдруг вспомнил лейтенант
— У девки-то? Климова ейная фамилия. Младший сержант Климова.
«Я запомню,» -подумал лейтенант, но ничего не сказал и пошел обратно по подвалу. Морпех дрых, похрапывая, другие тоже дремали, кто-то зашивал ватник, кто-то чистил винтовку, кто-то просто молча смотрел в потолок и напевал песни.
Лейтенант не знал, доберется ли Маруся хотя бы до медсанбата, не знал, останется ли в живых хотя бы к утру он сам, морпех, усатый санитар. Он не знал, когда будет Победа, и кто из них доберется до Берлина. Это его заботило мало.
А фамилию медсестры он забудет утром, когда немцы пойдут в очередную атаку, как забудет и фамилию немецкого философа. Зато формулу «человек есть цель, а не средство», будет вспоминать каждый раз, когда на мушке появится очередной враг.
Заканчивался долгий день восемнадцатого октября тысяча девятьсот сорок второго года.

Автор: Алексей Ивакин