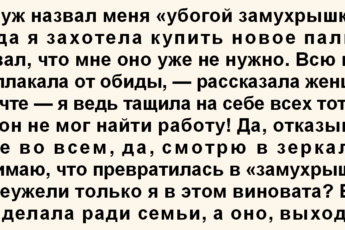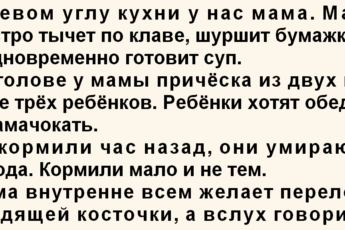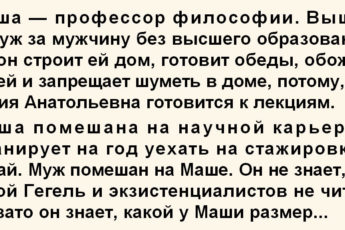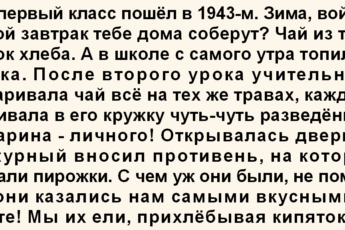И день был – обычный. И не случилось ничего. Да и хорошо, что не случилось. Чем старше становишься, тем меньше хочется бурных страстей и потрясений. И славно, когда рабочий день закончился, а ты бредёшь себе к дому, и осень рядом с тобою бредёт, существует, влачится в сторону неизбежности: зимы. И уже то, что дождя нет, – замечательно. Повод, чтобы тихо радоваться. Вот сейчас приду домой, да как…
Тормоза рядом заскрипели. Даже вздрогнул от неожиданности. Какая-то машина, ну уж очень иностранного производства, остановилась вплотную с тротуаром, и стекло медленно вниз поехало. Опять – хорошо: часто, когда иду из школы, мои бывшие ученики тормозят и до самого прямо дома подвозят. Такой вот, наверное, «бонус» за сорок лет работы.
За рулём мужчина. По виду – мой ровесник. Ну, или почти. Не узнаю, хотя по глазам, теплом вдруг брызнувшим каким-то особенным, понимаю, что и он – мой ученик. Только такой далёкий, что и не вспомню его.
– Степан Ильич! Здравствуйте!!. А я тут совсем недавно вас вспоминал. Подумал ещё: интересно, работаете ли ещё или уже на пенсии. Садитесь, пожалуйста. Всё равно – куда, но я вас довезу, потому что совершенно не тороплюсь.
И распахивает передо мною дверцу. Сажусь на сидение рядом, придумывая, как бы «вспомнить» его имя. А он, умница, сам мне на выручку пришёл: сразу представился:
– Конечно, конечно, вы меня не узнали и не вспомнили. Я Сергей Селивёрстов. Учился плохо, а потому после восьмого из школы ушёл. А? О чём вы спрашиваете? Куда? В ПТУ, конечно. У нас ведь выбор тогда небогатый был: или штукатур–маляр, или слесарь–сантехник. Я «соригинальничал» и на обвальщика мясных туш пошёл…
Мы уже мчимся по осеннему городу, большому такому и обоим нас с Серёжей родному. Он и спросил только:
– Всё там же живёте? Я помню, где это. Мы с классом, когда вы однажды заболели, проведывать вас приходили. Помню, как жена ваша суетилась и чаем нас всех поила. А мы расселись, где можно. Я тогда на столик ваш из оникса сел. И сломал его. Видел, как вы тогда побледнели, но ничего не сказали. А мне так стыдно стало, не знал, куда деваться. И так вам благодарен был за ваше «ничего страшного, это всего лишь старый камень». Тогда, кажется, понял, что такое настоящая интеллигентность… Спасибо вам, учитель мой…
… И молчим оба. Он вспоминать, наверное, продолжает. А у меня вдруг в носу защипало что-то. Простыл, возможно.
Чтобы сломать затянувшееся молчание, спрашиваю:
– Ну, Серёж, и как же ты жил все эти года? Семья, наверное, дети уже большие? Внуков нет ещё?
Он молчит опять немножко, чувствую, что думает, с чего начать. Потом заговорил всё же:
– Если я закурю, вам нормально будет? Вы, помню, тоже курили.
– А вот давай вместе и закурим, – отвечаю.
– А знаете, что, Степан Ильич? Давайте в кафе куда-нибудь заедем? Там и поговорим, кофе выпьем? А? Как вы?
– Ты, Серёж, лучше где-нибудь у сквера припаркуйся. Пройдёмся чуть, там и поговорим.
– Тоже – идея, – отвечает и почти сразу же тормозит у облитой щедрой желтизной, но всё ещё густой купы деревьев.
Выходим и неспешно идём по почти пустой аллее: рабочий день ещё не окончен, а потому и людей здесь немного. Идём, молчим. Я не тороплю своего ученика бывшего с рассказом. Знаю, что после стольких лет разлуки надо с мыслями собраться, чтобы с самого главного начать. И он начинает:
– Нет у меня, Степан Ильич, ни детей, ни внуков. Да и жены тоже нет. Убили её, давно когда-то, вместе с сыном. Вернее, она беременная была. Но что сын родится, мы уже тогда знали. До родов далеко ещё было, она пока работала. Через неделю в декрет уйти должна была. Не ушла. Потому что этот гадёныш, сынок папика богатого, летел по улице, с управлением не справился и на остановку вылетел. А Оля там автобуса ждала. Ну, и сразу – насмерть… Я, уже когда на суде сидел, всё никак поверить не мог, что её нет на свете. Вообще нет. Сидел, слушал, как адвокат его всё рассказывал, какой он хороший и «пригожий», какую праведную жизнь ведёт и как родителей своих любит. А то, что в этот раз за рулём пьяным сидел, так это от стресса всё: девочка его бросила, а сама в Англию улетела и там за какого-то престарелого лорда замуж вышла. Вот он узнал про всю эту трагедию своей юной жизни и с горя напился…
Окончательно очнулся только, когда приговор услышал. Знаете, думал, что у меня бред начался. Ему год условно дали. И освободили прямо в зале суда. Он, когда выходил, ко мне обернулся и сказал: «Вот и сиди теперь без жены и без денег. Не захотел тогда договориться, теперь – получай…» И – разулыбался, светло так и безмятежно, словно ребёнок утром, когда проснулся и на маму смотрит…
Слушаю я своего мальчика несчастного и вижу, что он старый совсем, куда как меня старше. И плачет при этом. И закуривает. И куда-то далеко вперёд, то есть, назад, в прожитое, смотрит. И понимаю я, что надо что-то мне сделать, чтобы ему не так больно сейчас было. И за плечи его обнимаю. И к сердцу дорогое своё дитя прижимаю. Но плакать – нельзя. Мне нельзя. Потому что я ведь учитель, которому ребёнок о своём горе рассказывает. Мне его беречь нужно.
А он – справился. В руки себя взял. И продолжает:
– Я вместо него в тюрьму сел, Степан Ильич. Дали мне восемь лет общего режима… Потому что я его у подъезда трое суток на своей машине караулил. А когда он из дому вышел, так прямо вмял его в стену. Он – тоже сразу… как Оля… на месте. И я на месте остался милицию ждать…
И снова замолчал. Но уже не плакал. Мы курили и шли по утопавшей в мокрых от дождя или слёз листьях дорожке и что сказать, не знали.
А потом Серёжа мой снова заговорил. Но уже как-то совсем по-другому, словно в самом главном себе признавался, а не со мною говорил:
– Но, знаете, Степан Ильич, легче мне после этого не стало. И не становится… Я вам сейчас скажу такое, чего пока ещё никому не говорил: всё боялся, что не поймут меня…
Он закуривает ещё одну сигарету и только потом продолжает:
– Уже почти двадцать лет прошло с тех пор, как я сидел, руль обнявши, ожидая милицию у того подъезда… И сейчас мне жалко. И мальчишку того жалко. И родителей его, которых я сиротами сделал.
Я понимаю, очень его понимаю сейчас. И что должен что-то сказать, понимаю:
– А Олю свою… – а как продолжить – не знаю…
Он смотрит на меня своими мудрыми стариковскими глазами. Синие они, оказывается, у него. И удивительно спокойно отвечает, просветлев ликом:
– А Олю?.. Олю я до сих пор люблю… И любить буду… Нашему бы сыну теперь было, наверное, столько же, сколько тому мальчику, ну, у которого я… жизнь отобрал…