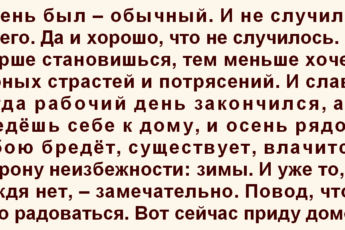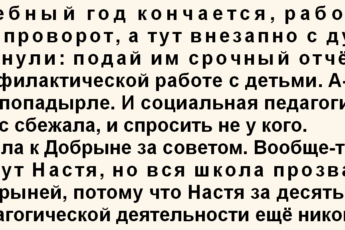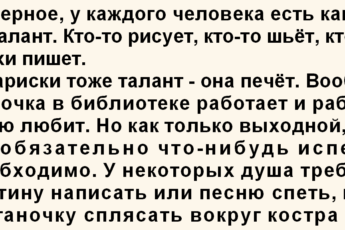Проститься с Евдокией Егоровной пришла вся деревня. Весь скорбный путь до деревенского погоста трое пожилых уже сыновей усопшей, склонив седые головы, прошли за гробом матери пешком. У каждого в руках было по портрету. Не только этапы жизни самой Евдокии Суровцевой были запечатлены на них — история страны явственно читалась на мастерски и с любовью написанных маслом полотнах…
Портрет первый
В далёком 1938 году двадцатитрёхлетний Яков Суровцев приехал в эту деревню из области. Тогда на село часто посылали образованных и идеологически подкованных молодых людей, чтобы те помогали проводить среди деревенских жителей политику партии.
Сам Яков, комсомолец и активист, вырос в интеллигентной семье. Родители его, принадлежавшие к обедневшим дворянским родам, чудом выжили в революционной круговерти. Покинув Петербург сразу после того, как пришло известие об отречении Николая II от престола (что, вероятно, их и спасло), они осели в одной из глухих губерний. О своём благородном происхождении позже мать с отцом постарались забыть.
Отец работал врачом, мать освоила профессию медсестры. Единственного сына воспитывали они строго, старались дать тому достойное образование, дополняя знания, которые мальчик получал в школе, домашними уроками. Мама привила Якову любовь к живописи. И как только он взял впервые в руки кисть, стало ясно, что талант к этому делу у ребёнка недюжинный. Чего стоило родителям в то непростое время добывать для сына холсты-краски-кисти, история умалчивает. Но рисовал мальчик вдохновенно.
Его способности заметили учителя, и вскоре Яков стал главным оформителем всех агитационных уголков не только в школе, но и в городе. Вступив, как полагается, в комсомол, юноша оставался на хорошем счету, после школы работал в обкоме комсомола. Оттуда его и направили на село. Думал юноша, что надолго в деревне не задержится. А оказалось, здесь и поджидала его судьба…
Спрыгнув с телеги около сельсовета и сгрузив свой нехитрый скарб, значительную часть которого составляли принадлежности для рисования, Яков обратил внимание на стоявший неподалёку трактор. Чтобы размять затёкшие за время долгого пути ноги, направился он к этому чуду техники, рядом с которым возился худенький, как показалось Якову, паренёк. Но подойдя поближе, он с удивлением понял, что у трактора находится девушка. Да какое там девушка — девочка-подросток, одетая в замасленный комбинезон явно не по размеру.
Остановившись неподалёку, Яков с любопытством смотрел на происходящее.
Девчушка, вытерев руки о штанины, ловко запрыгнула в кабину трактора. Машина взревела, выпустив клубы чёрного дыма из трубы, дёрнулась и грохоча покатилась прочь. Яков успел лишь заметить лукавый взгляд из-под пряди русых волос…
Председатель сельсовета на вопрос Якова о необычной девушке ответил, распевно растягивая слова:
— Так Дуська-трактористка это. Бес, а не девка. В чём душа держится, а с такой махиной управляется! Сама вызвалась, не испужалась. Хоть и надавала ей бабка тумаков — родителей-то у Дуськи нету давно. Тёмная старуха Никаноровна, в церкву ходит и внучку за собой, было, таскала. Да та ей не поддаётся, вон, в комсомол вступила. Боевая девка, одно слово!
Позже, на собрании комсомольской ячейки, Яков вновь встретился с Дусей. И всё — пропал парень. Вроде, особой красотой девушка не выделялась, а как глянула своими глазищами — ёкнуло сердце, забилось бешено где-то под горлом…
Чтобы познакомиться с Евдокией поближе, Яков попросил её согласия позировать для картины. Так и появился на свет первый портрет Дуси — хрупкая девушка в кабине трактора смотрит с полотна пронзительным и лукавым взглядом…
Удивительно, но такие абсолютно разные люди, как Яков и Евдокия, очень быстро стали по-настоящему одним целым. Бабка Никаноровна, ворча, одобрила выбор внучки. Но поставила условие: молодые должны обязательно венчаться.
Евдокия было возмутилась — негоже комсомолке под венец идти. Яков же её уговорил. Юноша, воспитанный верующими родителями, хоть сам в Бога и не верил, но уважал религию предков. Осенью 1939 года, расписавшись поначалу в сельсовете, молодые отправились в соседний район, где у Никаноровны был знакомый батюшка, который потихоньку обвенчал Якова и Евдокию. Так и сложилась новая ячейка общества.
Через год с небольшим у Суровцевых родился первенец, Егорка. Родители Якова настойчиво уговаривали сына вернуться в город вместе с семьёй, но Дуся покидать родную деревню не захотела. Она по-прежнему работала в колхозе, днём доверяя уход за сыном Никаноровне, и та с радостью тетёшкалась с правнуком.
Яков, с удивлением наблюдая за молодой женой, не мог понять, как ей хватает сил и на тяжёлый труд в колхозе, и на домашние хлопоты, и на сына, который, подрастая, становился всё шустрее и шустрее.
Сам он, наездившись по окрестным деревням с райкомовскими поручениями, к вечеру просто валился с ног от усталости... И лишь иногда ему удавалось выбраться с мольбертом куда-нибудь за деревню, где он полностью уходил в себя и рисовал, рисовал…
Деревенские посмеивались над художником: что взять с этого городского, все там они малахольные. И только Дуся с трепетным восхищением смотрела на полотна мужа, узнавая и одновременно не узнавая на них знакомые с малолетства места...
Портрет второй
В 1941 году Евдокия и Яков готовились стать родителями во второй раз. Материнство Дусю красило: она чуть располнела, движения стали плавными, походка — неспешной. И только смешливый взгляд из-под непослушной пряди цвета спелой пшеницы выдавал в этой статной молодой женщине ту задорную девчушку, что бойко управлялась с железной машиной три года назад.
Утро воскресенья 22 июня Суровцевы провели вместе. Дусе до родов оставалось меньше месяца, к работам на поле её уже не привлекали. Яков отсыпался после недельной поездки по отдалённым деревням. Часов в одиннадцать по деревне пронёсся тревожный набат — председатель изо всех сил колотил в подвешенный около сельсовета кусок рельса… Так селяне узнали о начале войны…
Удаляясь от деревни на трясущейся телеге, Яков неотрывно смотрел на тающую в пыльной дымке околицу, где остались воющие бабы и притихшие ребятишки. Чуть в стороне ото всех молча стояла Евдокия — с выпирающим животом и с Егоркой на руках.
Ни слезинки не выронила она, провожая мужа. Лишь до последнего не отпускала его рук, судорожно вцепившись в них побелевшими от напряжения пальцами… А когда Яков садился на телегу, жена молча перекрестила его…
Как только телега с мужиками скрылась за поворотом в лес, Евдокия, словно обессилев, опустилась на колени в сухую дорожную пыль и горько, по-бабьи, заголосила… Никаноровна, подымая обмягшую внучку с земли, увидела вдруг, что прядь её волос, выбившаяся из-под платка, словно подёрнулась белой пылью… Так в двадцать с небольшим лет Евдокия поседела…
Редкие письма от мужа, приходившие с фронта, солдатка перечитывала, пока не запоминала наизусть. В деревню уже приходили первые похоронки — то там, то тут вдруг раздавался горький вдовий вой. Евдокия же теперь свои дни начинала и заканчивала на коленях — куда и делся её юношеский атеизм?..
Вместе с Никаноровной молилась она Господу, чтобы уберёг её Яшеньку от шальной пули да от осколка. Иную ночь лампадка перед иконами горела до самого утра — укачивая новорождённого сына Антошеньку, как заведённая повторяла Дуся слова девяностого псалма: «Живый в помощи Вышняго...» Она вся осунулась, на лице остались одни глаза — работа на пределе сил и ночные бдения у люльки беспокойного сынишки красоты не добавляли. Но каждый раз, крадя у себя лишние полчаса отдыха, становилась женщина на молитву…
Яков почти явственно ощущал эту незримую защиту, которую давала ему истовая вера и любовь жены. Из каких только переделок ни выходил он невредимым, сколько раз смерть, уже почти сцепив на его горле костлявые пальцы, обдав холодом, вновь отступала… Скольких товарищей оставил солдат под еле приметными могильными холмиками вдоль распаханных взрывами фронтовых дорог… А сам, дважды получив ранения, снова возвращался в строй.
И в мае 45-го, остервенело чертя по выщербленной стене Рейхстага, оставил он там имя жены: «Это вам от моей Дуси, фрицы!» И подписался: «Русский солдат Яков Суровцев».
В ставшую родной деревню вернулся Яков в августе. Просёлочная дорога была пуста. Но повернув с лесной опушки в поле, увидел он у околицы знакомый силуэт… Такой вот — иссохшей, сгорбленной, седой, но светящейся от ничем не измеримого счастья — и запечатлел на портрете Яков свою Дусю во второй раз…
Портрет третий
Послевоенные годы были не легче военных. Страна залечивала тяжёлые раны. И деревня вновь трудилась на пределе возможностей. В 1947 году супруги в третий стали родителями. «Поскрёбышек» — так говорили они о своём младшеньком, Ванятке. Да только поскрёбышка им Господь дал гораздо позже…
Жизнь понемногу наладилась. Выросли старшие сыновья Суровцевых, подрос и Ванятка. Яков работал председателем колхоза, Евдокия, заочно выучившись на агронома, трудилась с ним рука об руку. Ни ссор, ни размолвок не было в этой семье.
Однажды Яков пригласил к себе домой на обед одного из райкомовских замов. Важный дядька, увидев в красном углу председательского дома иконы, возмутился до глубины души:
— Партбилетом рискуешь, Яков Ильич, — басом выговаривал он фронтовику. — Ты разве не в курсе, как наша партия относится к опиуму для народа?
— А ты меня не пужай, чай, пуганный, — спокойно ответил ему Яков.
— Или ты думаешь, я войну прошёл — не испужался, а перед тобой сейчас задрожу? Меня у смерти моя жена с бабкой её покойной перед этими иконами вымолили. Висели они здесь и висеть станут. А партбилет не ты мне вручал, не тебе и отымать. Вот такое тебе будет моё слово.
Скандал разразился тогда нешуточный. Однако снова, видно, Господь помог — спустили это дело в районе на тормозах, одним выговором отделался Яков.
Колхоз под руководством Суровцева окреп, разросся. Построены были новые дома, клуб, школа. А председатель нет-нет да и уходил за околицу со стареньким мольбертом, чтобы отдохнуть душой… Вот уже и старшие сыновья разъехались — один после армии поступил в институт, второй служил. Ванятка в школе учился. И вдруг Евдокия в сорок с небольшим лет поняла, что… беременна.
— Как быть-то, Яшенька? — сокрушалась она. — Чай не молодые уже, как людям-то в глаза смотреть станем?
Тот, усмехаясь в прокуренные усы, успокаивал супругу:
— А ты прямо смотри, Дусенька, нам стыдиться нечего. Вон каких орлов вырастили и этого подымем. Не бойся, родная, вместе мы со всем справимся.
Так и появился на свет Николай, младший Суровцев. Ох и шебутным рос мальчонка! Сколько раз родителям приходилось краснеть за него перед учителями и директором школы, сколько раз отец грозил снять армейский ремень и отходить по заднице непослушного сына… Эх, знал бы Яков Ильич, какой недолгой будет жизнь младшенького, не журил бы сына за проказы…
В армию Николая призвали в 1980 году, по осени.
Неспокойно было на душе у матери. Осенила она юношу крестным знамением, провожая на службу. И молилась ночами за сына со всем усердием, как когда-то за мужа… Да только, видно, у Господа были на парня свои планы… Афганистан перечеркнул юную жизнь…
Почернела от горя мать, оплакивая сына, резко сдал и быстро слёг отец — не вынес потери, да и старые раны сказались. И уже лежа в постели, попросил он Дусеньку снова позировать ему… Так появился и третий портрет Евдокии: седая, сгорбленная женщина что-то шепчет перед иконами…
Евдокия пережила мужа более чем на тридцать лет. На своих ногах до последнего ходила. В город к сыновьям ехать отказалась наотрез — куда ж она без своих Яшеньки и Коленьки, на могилы которых в общей оградке ходила еженедельно. А ещё, не считаясь с солидным возрастом и болячками, выстаивала Евдокия все воскресные службы в возрождённом храме…
Почувствовав скорый уход, бережно собрала она все картины и рисунки мужа и передала их в местный краеведческий музей, оставив себе лишь три своих портрета. С ними и проводили её сыновья в последний путь.
Сейчас висят они в деревенском доме, где прожили долгую жизнь Яков и Евдокия и где живёт теперь старший их сын, — как напоминание о том, что есть на Земле вечная любовь, благословенная свыше и пересилившая саму смерть…

Автор: ЖивуВГлубинке