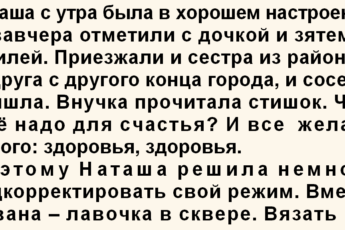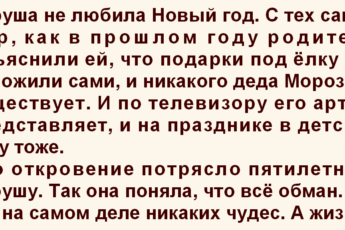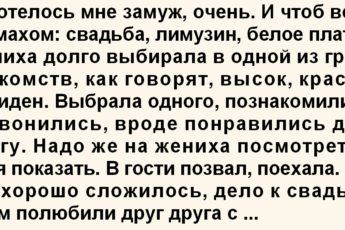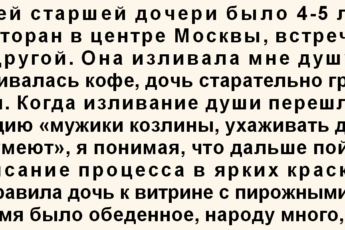Бабка Нюрка приходила к нам по праздникам. Она доставала из объемистой сумки двухлитровую банку молока, домашние творог и сметану.
— Ну, кума, с праздничком тебя! — бабка крестилась на иконы, потом садилась на лавку.
— С праздником, кума, — отвечала бабушка и накрывала на стол.
Отказываться было не принято, гостья крестила стол с угощением, и они с бабушкой приступали к трапезе. Ели не торопясь, наслаждаясь простой картошкой с кусочками мяса так, будто это было, по меньшей мере, кушанье с царского стола.
После обеда крестились, вздыхали.
— Ну, Нюшка, как твой аспид поживает? — спрашивала бабушка.
— Ой, кума, замучил он меня, замордовал. Ревнует до сих пор, ирод. Куды не пойду, следит, — вздыхала бабка Нюрка.
Бабушка поджимала губы, ей, вдовевшей с сорока лет, эти разговоры были не понятны.
— Все с ума сходите? Состарились, а все ревность какая-то, ну какая может быть ревность на седьмом десятке?
— Так ведь он меня всю жисть ревнует! — глаза у бабки Нюрки наливались слезами. — Я сиротой осталась, а папашка женился. Мачеха-то трех девок ему осмолила, я зачем ей? Вот и выпихнула замуж за старика.
Бабушке этот «старик» приходился троюродным братом, поэтому она начинала сердиться:
— Ему только двадцать пять было! Какой старик!
— Ага, двадцать пять, а мне восемнадцатый годок шел, еще и на улицу (гулянье молодежи) не ходила. Ему-то уж гулянки ни к чему, он свое поколобродил, а мне каково? Девки, мои ровесницы, наряжаются, да с песняками по улице, а мне коровьи лепехи чисть.
Бабка Нюрка начинала плакать. Бабушка трогала ее за плечо:
— Ну, будя, будя сырость разводить, тебе ли плакаться. Вон, глянь кругом, все бабы наши вдовые, а у тебя живой вернулся. Дети при отце росли, не то что у других. Мои-то девки кое-как ходили, а братка Маню как наряжал. И шалочки, и полушалки, ботиночки-сапожки — все у ней было. И сыновей в люди вывел. А тут все своим горбом.
Гостья кивала согласно:
— Тут ты, кума, права. Детей он любит без памяти. За них душу отдаст. А я... — и гостья начинала всхлипывать.
Под окном раздавался шум. Это приезжал «аспид и ирод» — дед Мишуха, муж бабы Нюры. Он и в семьдесят лет работал в колхозе, возил на телеге почту. Дед шумел в сенцах, разувался, вешал дождевик на гвоздь, а жена его поворачивалась к зеркалу, поправляла платок, вытирала глаза.
— Здорово, кума, — огромный мужик входил в избу.
— Здорово, кум, садись обедать.
Дед кивал кудрявой седой головой и садился к столу. Он ел быстро, вскоре отставлял пустую чашку и ласково спрашивал жену:
— Ну, жалкуня моя, домой-то поедем? А то пешком по грязи, уморишься.
Бабка Нюрка поджимала губы:
— Небось и сама бы дошла. Все ты за мной следишь.
Дед улыбался:
— А как не следить-то, уведут ведь. Вон Митюха-сосед говорит: «Вот бы мне такую жену, как твоя бабка. И рабочая, и песельница.»
Бабка расплывалась в улыбке:
— Не даст побалакать, ирод. Ну, кума, пошли мы.

В дверях дед поворачивался, подмигивал нам и хватал в охапку свою «жалкуню». Бабка Нюрка отбивалась:
— Пусти, ирод, что люди подумают!
На улице Мишуха подсаживал жену на телегу, щелкал кнутом, и экипаж трогался. Бабушка смотрела им вслед и улыбалась.