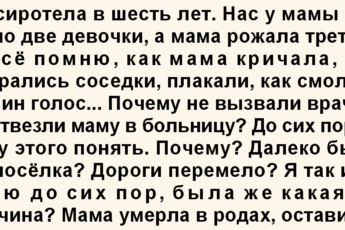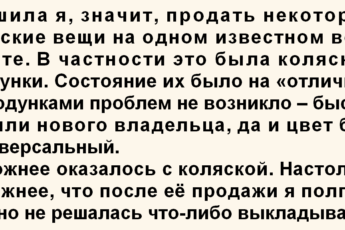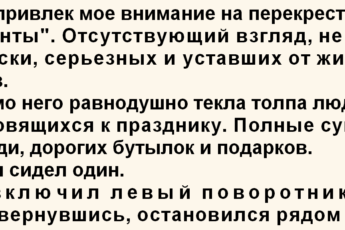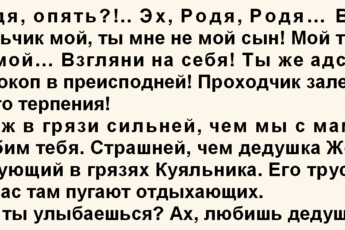Говорят, бабка Матрена второй век разменяла. А сама считает, что с весны ей пошел девяносто седьмой год. Впрочем, эту цифру она называла и в прошлом и по запрошлом году, когда я приезжал в деревню.
На этот раз Матрена Михайловна встретилась мне у колодца с полными ведрами. Хотел помочь, не разрешила. Сама, говорит, донесу.
Сама — ее любимое слово. Сама топит печку, и готовит себе немудреную еду, сама ходит и магазин за два километра, сама за огородом ухаживает...
Мне нравится приветливость Матрены Михайловны, ее протяжный окающий говорок. Словно кружево неспешно плетет.
— Недавно, — говорит, — приезжали городские, приглашали к себе жить. Что, мол, тебе туго одной-то в доме маяться.
— А вы?
— Отказалась.
— Почему?
— Да куда же я без всего этого! — бабка Матрена всплеснула руками, ласковым взглядом повела вокруг. — Тут мне, батюшка, каждая березка кланяется, каждая тропинка своя... Иду — и вся моя жизнь перед глазами. По этой стежке девчонкой веселой, на речку бегала; по той — с муженьком на покос хаживала...

Мне подумалось: стало быть, на склоне лет Матрена Михайловна мысленно свою жизнь повторяет, а она продолжала аргументировать свой отказ переехать к родным в город:
— Опять же огород жалко. И занятие, и харч свежий: картошечка, лучок, морковка... В лесу —грибки, ягоды... А там, в городе, что я буду делать? Небо коптить?
Это было убедительно, но я спросил:
— И за грибами-ягодами в лес ходите?
Она посмотрела на меня недоуменно:
— А как же не ходить-то? Разве усидишь, когда красота в лесу такая!
Матрена Михайловна так посмотрела окрест, что я понял: вот эта влюбленность в родную глухомань дает ей и долгую жизнь, и не по годам физическую крепость, и бодрость духа.
Я смотрел на Матрену Михайловну так, как будто вот сейчас, неожиданно сделал важное для человечества открытие. А она поняла мой взгляд по-своему и, склонив голову, молвила печально:
— Какой, батюшка, город. Пора в Могилевскую собираться, на тот свет.
Мое радостное чувство сменилось жалостью: чем утешить человека, которому сто лет? И я брякнул:
— Туда торопиться не надо — еще никто обратно не возвращался.
— Так-то оно так. И жизнь теперь ладная — только живи да радуйся. По ведь пора и совесть знать. Как бы не прихватить чужого века...
Мы попрощались. Я пожелал Матрене Михайловне доброго здоровья. А через день после этого разговора с ней приключилась беда. Шла бабка из леса с полной корзинкой малины. Шла мимо пасеки Петра Шалашова. То ли пчелам понравился запах малины, то ли пчеловод, вынимая из домиков рамки с медом, сильно побеспокоил ульи — не знаю, что тому причиной — разъяренные пчелы налетели на бабку Матрену. Жалили беспощадно. С ног сбили в густую траву. Чуть живую женщины подняли старушку и на руках принесли домой.
По деревне пошел слух: «Последний день бабки Матрены». Потянулись люди проститься: всем почти родная— как-никак, считай, сто лет обогревала деревенских своей спокойной улыбкой.
Явился и пчеловод. Пока фельдшер не пришел к бабке на помощь, поил Матрену Михайловну настойками каких-то трав с медом, а женщины растирали ужаленные места самодельным снадобьем.
Не зря шестидесятилетний Петруха слывет в деревне ученым мужиком — легче стало бабке Матрене — она открыла свои голубые глаза, спросила:
— Ну, как Петя-батюшка, мои дела?
Петр свернул «козью ножку» с махрой (папиросами не накуривается) и спокойно сказал:
— Если сейчас не умрешь, то еще долго жить будешь.
Видно, бабка Матрена знала себя. Улыбнулась своей
обычной доброй улыбкой:
— Твоими бы устами да мед пить...